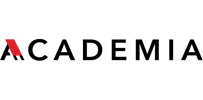Античность – Ренессанс – Классицизм: связь времен и «связка группов» в рисунке М. И. Козловского «Российская баня» (1778)
Александр Г. Сечин
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, sechin_a@mail.ru
Аннотация.
Статья посвящена способам цитирования визуальных образов в эпоху риторической культуры, которая простиралась от Античности по XVIII век включительно. В качестве наглядного примера подобного цитирования выбран рисунок М. И. Козловского, который стал его значительным достижением в ходе изучения в Риме художественного наследия древности и Ренессанса. Для выявления конкретных прообразов, которые мог цитировать в своей работе пенсионер Академии художеств, применен метод иконографического анализа отдельных фигур и групп его рисунка в контексте сохранившихся документов: рапортов и, особенно, римского журнала Козловского, направленного им в качестве отчета в Академию, в тесной связи с упоминаемыми и характеризуемыми им в этих текстах произведениями искусства. Анализ позволил впервые обнаружить в «Российской бане» образы, опирающиеся на искусство Рафаэля и его ученика Джулио Романо. Также впервые в исследовании творчества Козловского использован иконологический метод, основой которого стал взгляд на его рисунок сквозь текст И.Ф. Урванова «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода…», что позволило найти современное выпускнику Академии художеств XVIII века теоретическое обоснование его приемов ассимиляции классических образов прошлого. На примере одной из групп в рисунке Козловского, прообраз которой (как и его вероятный источник в античном искусстве) впервые обнаружен автором статьи на ватиканской фреске «Битва Константина», рассмотрена такая весьма важная фигура визуальной риторики, как контрапост (антитезис в вербальных искусствах).
Ключевые слова:
М.И. Козловский, Микеланджело, Рафаэль, Джулио Романо, иконография, иконология, имитация, ассимиляция, визуальная риторика, контрапост
Для цитирования:
Сечин А.Г. Античность – Ренессанс – Классицизм: связь времен и «связка группов» в рисунке М.И. Козловского «Российская баня» (1778) // Academia. 2020. № 3. С. 299–322. DOI: 10.37953/2079-0341-2020-3-1-299-322
Antiquity – Renaissance – Classicism: a chain of time and the «bundle of groups» in the drawing Russian baths by Mikhail Kozlovsky (1778)
Alexander G. Sechin
Herzen State Pedagogical University of Russia, St Petersburg, Russia, sechin_a@mail.ru
Abstract.
The article is devoted to the methods of citing visual images in the rhetorical culture era, which extended from Antiquity to the 18th century inclusive. The drawing by Mikhail Kozlovsky that became his significant achievement in the course of studying the artistic heritage of Antiquity and the Renaissance in Rome was chosen as a case study to achieve this goal. In order to identify prototypes that one of the best students of the Fine Arts Academy could cite in his work the method of iconographic analysis of particular figures and groups of his drawing was applied in the context of preserved documents: reports sent by him to the Academy and, especially, Kozlovsky’s journal of art works that he had seen in Rome. This iconography is considered in close connection with the works of art mentioned and characterized by him in these texts. The analysis allowed us to discover first in the drawing Russian baths images based on the art of Raphael and his pupil Giulio Romano. For the first time in the study of Kozlovsky’s work is also used the iconological method based on the analysis of his drawing through the text of A Brief Guide to the Knowledge of Drawing and Painting of Historical Kind… by his contemporary Ivan Urvanov that allowed to find a theoretical justification of assimilation of the classic images by the graduate of the Fine Arts Academy of the 18th century. The author of the article discovered prototype of one of the groups of Kozlovsky’s drawing in the Vatican fresco Battle of Constantine. On the example of this group (as well as its ancient probable source) he considered a very important figure of visual rhetoric such as the contrapposto (antithesis in verbal art).
Keywords:
Mikhail Kozlovsky, Michelangelo, Raphael, Giulio Romano, iconography, iconology, imitation, assimilation, visual rhetoric, contrapposto
For citation:
Sechin, A.G. (2020), “Antiquity – Renaissance – Classicism: a chain of time and the “bundle of groups” in the drawing Russian baths by Mikhail Kozlovsky (1778)”, Academia, 2020, no 3, pp. 299–322. DOI: 10.37953/2079-0341-2020-3-1-299-322
Большой рисунок сангиной «Российская баня» (ил. 1)[1] Михаила Ивановича Козловского (1753–1802), не только превосходного скульптора, но и замечательного графика, занимает особое место в истории отечественного искусства. Подпись на нем – «Въ Римѣ 1778. Козловской» – говорит о том, что и сам автор придавал этому своему творению большое значение. В каталоге одной из выставок уникальной графики XVIII столетия, состоявшейся в Русском музее в начале XXI века, Н. И. Уварова писала в аннотации к этому листу: «Это одна из самых популярных композиций Козловского, многократно перерабатывавшаяся и воспроизводившаяся различными художниками не только XVIII, но и XIX века. Действительно, экзотическое и соблазнительное зрелище. Художник, в соответствии с народными поверьями, представляет баню как греховное место, чуть ли не с адским жаром, но и одновременно здесь он видит невинную наготу посетителей античных терм» [Рисунок и акварель в России 2005, с. 86][2].
Темой нашей статьи стало провести более определенную линию, которая соединила бы графический шедевр русского скульптора с античным изобразительным искусством. Но линия эта, безусловно, проходит через эпоху Ренессанса как вершину классической эстетики и источник академически безупречного метода подражания лучшим образцам.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Инв. Р-5891.
Фото из книги: Михаил Козловский, 1753–1802 / Русский музей. СПб.: Palace Editions, 2007.
I
Многие исследователи творчества Козловского связывали его «Российскую баню» с именем Микеланджело, прежде всего – с его знаменитой фреской «Страшный суд», которой пенсионер Императорской Академии художеств искренне восхищался, о чем оставил выразительную запись в своем журнале «Усмотренные [в Риме] славные вещи великих художников»: «В палатах Ватикана, где находится множество вещей достопамятных, например как в капелле Систина. Расписана вся Микеланджем; главная картина представляет Страшный суд, где сей мастер показал ужасное [т.е. изумительное. – А. С.] дарование и искусство, как жаркая связка группов, также весьма крепкой и ученой рисунок» (курсив мой. – А. С.) [Мастера искусства 1969, с. 98][3]. Как пишет сотрудник отдела рисунка Русского музея А. В. Максимова в каталоге персональной выставки маэстро, состоявшейся там в 2007 году, «даже В.В. Стасов, весьма критически относившийся к русскому искусству XVIII века вообще и к творчеству Козловского в частности, видел в этом листе, случайно попавшем в его руки, „форму... à la Michelangelo“ и „великий энтузиазм ... нашего художника к римскому великому скульптору“» [Михаил Козловский 2007, с. 73]. В дальнейшем, уже в советскую эпоху, имя Микеланджело постоянно всплывало в трудах историков искусства в связи с «Российской баней». Руководствуясь как общим впечатлением от разделенной на четкие планы и отдельные группы сцены в мыльне, так и бросающейся в глаза особой заботой автора о детальной проработке мощной мускулатуры обнаженных фигур ее участников, рисунок Козловского связывали с именем одного из титанов итальянского Ренессанса А.А. Сидоров [Сидоров 1956, с. 194], Н.Н. Коваленская [Коваленская 1964, с. 195], В.Н. Петров [Петров 1977, с. 50].
Рассуждения всех исследователей обычно исчерпываются наблюдениями над стилем произведения, и тут хотелось бы привести в качестве показательной цитату из текста Е.И. Гавриловой, которая отдала много времени и сил изучению уникальной не только по своему качеству, но и количеству коллекции графики Михаила Козловского в Русском музее: «Творческое претворение титанических образов Микеланджело сказывается в композиции „Российская баня“ (1778), особенно в эскизе ее, выполненном сангиной и тушью. Воздействие барочных образцов великого итальянского мастера ощущается в пластичности и точности форм, в светотеневом моделировании, в компоновке групп, в подчеркнутом их динамизме» [Гаврилова 1983, с. 83]. Продолжая анализ рисунка, Гаврилова пишет о том, что отличает его в стилистическом отношении от протобарокко Микеланджело: «Величавое благородство стиля, строгая четкость графической манеры, симметричность масс и центричность композиции — все свидетельствует об утверждении классицистических принципов в графике Козловского», привитие которых она считает заслугой его российского учителя – А.П. Лосенко (1737–1773) [Гаврилова 1983, с. 83–84].
Михаил Иванович Козловский, безусловно, обладал чрезвычайно выразительным индивидуальным стилем, причем, особенно ценным и рафинированным, поскольку этот его собственный стиль сложился и расцвел внутри достаточно строго регламентированного классицизма, одним из краеугольных камней которого, как и в эпоху Возрождения, было подражание признанным эталонными образцам. В лучших своих вариантах и даже в принципе это подражание не подразумевало дословного цитирования, или копирования, если иметь в виду заимствование изображений художниками. Оно являлось, скорее, «ссылкой на авторитет», как было принято понимать и трактовать процесс «цитирования» равно в юриспруденции, откуда и пришло в общекультурный обиход латинское citatio, и в литературном творчестве вплоть до XIX века, когда синтаксис европейских языков обогащается кавычками, которые стали ярким графическим выражением окончательно сформировавшегося «авторитета профессиональных научных знаний» [Сиповская 2002, с. 99–106].
Подражание творческим достижениям древних мастеров и, как выражается Козловский, «живописцев модернов» [Мастера искусства об искусстве 1969, с. 99][4] было важнейшей методической частью системы академического обучения, о чем превосходно свидетельствует, например «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанного на умозрении и опытах…», составленное его современником Иваном Федоровичем Урвановым (ок. 1747–1815), – к этому тексту мы будем неоднократно обращаться [Урванов 1793]. Урванов был всего лишь лет на пять старше Козловского. Приблизительно в течение трех лет, с середины 1764 года, оба обучались в Академии художеств одновременно, и, хотя «Краткое руководство…» вышло в свет в 1793 году, вобрав в себя последующий 25-летний преподавательский опыт автора, на наш взгляд, оно вместе с римским журналом и известными нам работами пенсионера Михаила Козловского может служить хорошим подспорьем для лучшего понимания процесса его сложения как художника, в том числе и в отношении формирования особенностей индивидуального стиля. Чтобы сразу продемонстрировать этот тезис, процитируем фрагмент, в котором Урванов фактически дает определение «группа» и «связки группов», так сказать, профессиональным языком эпохи: «…Силою воображения можно присоединить к одному предмету многие, приводя их мысленно в такой порядок, чтобы могли составить хорошие групы, то есть купы или кучки из нескольких фигур сопоставленные по причине единомыслия или единоупражнения сих. Иногда присоединяется к ним и такая фигура, которая им или новизну объявляет, или что-нибудь ею примеченное показует, или слушает их разговор и проч. Но надобно, чтобы все групы имели связь с главным предметом, в котором состоит вся важность представления» [Урванов 1793, с. 90][5].
II
Эрнст Гомбрих усматривал в подражании мастеров Ренессанса своим античным предшественникам (он называет это «стилем all’antica»), два качественно различающихся способа: (1) имитацию как наиболее приближенное к точному копированию повторение оригинального изображения, правда, зачастую помещенного в другой сюжет, его почти механическое приспособление мастером для своей цели, и (2) ассимиляцию, когда преображение давшего импульс оригинала было более существенным, а получившийся в итоге художественный образ, не теряя связи с заимствованным образцом полностью, совершенно сплавлялся с новым для себя контекстом, и все вместе служило выражению нового смысла [Gombrich 1963, p. 31–41]. В первом случае, если имело место произведение большой формы, с множеством сцен и действующих лиц, нагромождение таких почти дословных «цитат» часто производит впечатление своего рода визуального пастиччо [Gombrich 1963, p. 33–34]. Ассимиляция, в основе которой лежит способность к обобщению, извлечению идеального образа из материальной оболочки конкретного изображения[6], даже при явной очевидности далеко не всегда может быть доказана и, безусловно, свидетельствует о высочайшем мастерстве художника.
В отечественном искусствознании подобные суждения – в связи с обращением российских живописцев к античному искусству в поисках выразительных пластических идей – высказывал современник Гомбриха Г.М. Преснов, на протяжении полувека служивший в Русском музее заведующим отделом скульптуры. Он выделял «два типа античных реминисценций в новом русском искусстве» [Преснов 1928, с. 221–233], первый из которых соответствует имитации, а второй – ассимиляции Эрнста Гомбриха. Причем, Преснов даже сильнее, с особым нажимом, подчеркивал не просто качественные различия между этими двумя способами подражания антикам, но разную степень таланта и мастерства самих художников, тоже отдавая пальму первенства «второму типу реминисценций», т. е. ассимиляции. В своей программной статье на тему «античных реминисценций», которая, к сожалению, не имела продолжения, исследователь несколько раз особо оговаривает цель своей работы: проследить соответствующие заимствования в отечественном искусстве исключительно с формальной стороны, не углубляясь ни в социальный контекст, включая биографии художников, ни в содержательный [Преснов 1928, с. 221, прим. 4; 225, прим. 3]. Способы возникновения «античных реминисценций» в искусстве Нового времени, по Преснову, могут простираться в широком диапазоне: от «бессознательного плагиата» до довольно туманной, неопределенной «инспирации» художника античным художественным образом, вершиной которой и является их «второй тип», наиболее ярко представленный в интересующий ученого период в творчестве А.Г. Венецианова и А.А. Иванова. Этих живописцев «можно было бы объединить в одну группу по роду их инспирации античностью: если в отмеченном нами простейшем виде реминисценции (простом внедрении античного памятника в композицию) можно было подчеркнуть механичность процесса пересаживания памятника в другую среду, здесь, наоборот, античный образ, пройдя стадию, отмеченную во втором типе инспирации (формирование идеи художника под влиянием другого памятника), входит уже органической частью в композицию, растворяясь в том едином целом, что мы называем произведением художника» [Преснов 1928, с. 233]. Таким образом, два русских мастера, самоучка Венецианов и один из лучших выпускников Императорской Академии художеств за всю ее историю Александр Иванов, достигли в ходе создания собственных творений в деле ассимиляции антиков, согласно терминологии Эрнста Гомбриха, наиболее выдающихся результатов.
Характерно, что Гомбриху для лучшего понимания процесса создания произведений изобразительного искусства в стиле all’antica представляется уместным прибегнуть в качестве сходной параллели к литературно-ораторской практике и теории эпохи Возрождения. Те приверженцы риторики Цицерона, которые, по его мнению, были слишком робки, чтобы отважиться на сочинение абсолютно оригинальных текстов, изощрялись в переплетении фраз и фрагментов известных им речей древних авторов, выпуская в свет под своим именем вербальные пастиччо [Gombrich 1963, p. 34]. Хотя уже римские риторы, такие, как Квинтилиан и Сенека, предостерегали авторов от буквального цитирования работ предшественников[7], а на заре Ренессанса, ссылаясь еще и на авторитет Горация, в том же духе наставлял начинающую молодежь Франческо Петрарка[8], этот способ литературного творчества был широко распространен в европейской культуре вплоть до XIX столетия и дальше, поскольку в принципе не противоречил технологии порождения новых творений в рамках так называемой риторической культуры – культуры готового слова[9]. Более того, как пишет Гомбрих (в середине XX века), английских школьников продолжают обучать «требующей усилий дисциплине подлинного imitatio» на примере прозы Цицерона, например, выразительным возможностям интонации ритмического завершения его речей в отрыве от конкретных слов [Gombrich 1963, p. 39]. Дальше этих рассуждений о родстве «литературного стиля» эпохи Возрождения со стилем all’antica в визуальных искусствах он не идет, заканчивая их постановкой задачи: «Но как бы то ни было, мы, искусствоведы, не можем полагаться на интуитивные методы, которыми, безусловно, руководствовались создатели произведений. Если мы хотим сформулировать то, что они видели в античности, мы должны быть в состоянии описать некоторые из их способов действия» [Gombrich 1963, p. 40].

I. Микеланджело Буонарроти. Сотворение Адама. Фрагмент. Около 1511. Фреска. 280х570. Сикстинская капелла, Ватикан.
II. Умирающий галл (Капитолийский галл). Копия с пергамского оригинала. Мрамор. Высота 93. Капитолийские музеи, Рим.
III. Микеланджело Буонарроти. Обнаженный (Ignudo) над Эритрейской сивиллой. 1509. Фреска.
Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
IV. Погребение Мелеагра. Фрагмент саркофага. II в. Мрамор. Капитолийские музеи, Рим.
V. Рафаэль Санти. Положение во гроб. 1507. Доска, масло. 184х176. Галерея Боргезе, Рим.
VI. Рафаэль Санти, Джулио Романо, мастерская. Станца дель Инчендио. Пожар в Борго, роспись цоколя. 1516–1517.
Фреска. Апостольский дворец, Ватикан.
VII. Рафаэль Санти. Герма-кариатида с раскинутыми в стороны руками. 1516–1517. Бумага, сангина. 168х213. Музей Тейлора, Харлем.
Сам Гомбрих, воздав должное своему учителю Аби Варбургу, его установке найти общий принцип, который художники эпохи Возрождения пытались извлечь из изучения древних памятников, в том числе – Pathosformeln как маркерам стиля all’antica, тут же объявляет «его гипотезу слишком узкой и слишком широкой» одновременно, а взамен предлагает лишь одно возможное и, на наш взгляд, далеко не исчерпывающее проблему объяснение: мастера Ренессанса искали и находили в известном им античном искусстве то, что он называет «иллюзией жизни» – готовые изобразительные формулы сложных движений, которые невозможно в достаточной мере наблюдать в природе и абсолютно нереально ставить в мастерской, например, падение человека с высоты. Этим они якобы стремились порвать с неподвижностью, застылостью и мертвечиной, свойственными работам их предшественников, художников так называемых «концептуальных стилей» в его терминологии [Gombrich 1963, p. 40][10]. Однако исследователь противоречит сам себе в тексте этой же статьи, когда приводит примеры сходных заимствований из античного искусства и в эпоху Средневековья [Gombrich 1963, p. 33]. Правомочно ли в таком случае говорить о феномене all’antica как о стиле и рассматривать его примеры только в эмпирически-формальном ключе, используя для этого наметанный глаз? Не лучше ли провести его по классу творческих методов, не отрывая при этом форму от содержания и попытаться дать этому методу рациональное объяснение? Далее мы попробуем продемонстрировать такой подход на конкретном примере, анализе одной из «группов» рисунка Михаила Козловского «Российская баня».
III
Находясь в конце 1770-х годов в Риме, Козловский продолжал активно учиться. Сравнительный анализ выполненной им там работы с «усмотренными славными вещами великих художников» предоставляет исследователю уникальный случай прояснить, как параллельно с большим классицистическим стилем формировался индивидуальный российского скульптора. Пенсионер Академии художеств осваивал наследие знаменитых предшественников, а в более общем виде постигал творческий метод подражания, или цитирования, в смысле следования авторитетам.
Для этого, на наш взгляд, следует обратить внимание на иконографическое сходство некоторых образов «Российской бани» с образцами, которые Козловский видел в Вечном городе и даже отметил в своем журнале.
Показательно, что никто из перечисленных выше маститых исследователей творчества скульптора не пытался сравнить его «Баню» со «Страшным судом» Микеланджело с точки зрения иконографии изображенных «группов» и отдельных персонажей. Действительно, обнаружить прямое заимствование, так сказать, дословное цитирование, или имитацию, невозможно. Скорее, в рисунке Козловского можно найти отражение некоторых образов росписи потолка Сикстинской капеллы[11], прежде всего обнаженных мужских тел, отличающихся, как обычно у Микеланджело, мощной мускулатурой: Адама из знаменитой фрески «Сотворение Адама» (ил. 2.I) и так называемых ignudi (обнаженных) (ил. 2.III), причем, они не только искусно встроены в новый для них контекст, но и преображены в соответствии с ним, т. е. ассимилированы.

итальянский карандаш, растушка, кисть, перо. 18,2х29,7. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Инв. Р-5744.
Фото из книги: Михаил Козловский, 1753–1802 / Русский музей. СПб.: Palace Editions, 2007.
Некоторые фигуры и группы «Российской бани» обнаруживают свои истоки в монументальных фресках, украшающих иные, не менее знаменитые, чем Сикстинская капелла, интерьеры Ватикана, а именно: в станцах Рафаэля. Приведем в качестве примера мужчину с разведенными в стороны руками, изображенного сидящим на полу в правой части рисунка. Его эффектный жест и голова в профиль, на наш взгляд, свидетельствуют о сильном впечатлении, которое произвели на Козловского кариатиды цоколя станцы дель Инчендио ди Борго, особенно та из них, что находится под фреской «Пожар в Борго» по ее центральной оси (ил. 2.VI). Ссылаясь на Дж. Вазари, непосредственное исполнение росписей цоколя обычно атрибутируют Джулио Романо [Вазари 2011, с. 71], но тот, как было хорошо известно и российскому пенсионеру, при жизни Рафаэля, как правило, работал «с его идеи» [Мастера искусства 1969, с. 98]: в частности руке самого маэстро теперь приписывают блистательный эскиз-инвенцию этой кариатиды (ил. 2.VII). Рисунок, выполненный тоже сангиной, некогда принадлежал королеве Кристине Шведской, а после ее смерти на столетие водворился в римское палаццо Одескальки, где Козловский гипотетически мог его видеть[12]. Характерно, что начинающий русский мастер не пошел по пути слепого копирования верхней части гермы молодого мужчины. Внесенные им изменения затронули не только голову, поворот которой изменился на противоположный и достиг степени строгого профиля, но и положение рук: они не подняты кверху (что было обусловлено у Рафаэля функцией фигуры), а примерно под тем же углом опущены вниз.

Фото из книги: Михаил Козловский, 1753–1802 / Русский музей. СПб.: Palace Editions, 2007.
В центре второго плана «Российской бани», где, в соответствии с указаниями Урванова, в исторической картине должны быть размещены ее «главные действующие лица, или иначе сказать, кои главное совершают действие» [Урванов 1793, с. 94], Козловский поместил выразительную группу из трех человек: двое мускулистых молодых мужчин несут, видимо, к выходу третьего, который пребывает в обморочном состоянии. Впрочем, фронтально стоящий за ними старец со сложенными крест-накрест руками, который с философским спокойствием наблюдает за происходящим, тоже может быть причислен к этому центральному «группу». Как и рассмотренная нами выше фигура сидящего мужчины, эти персонажи отсутствуют на подготовительных эскизах «Бани», исполненных художником, видимо, еще в начале 1770-х годов в одной из петербургских мылен (ил. 3, 4) [Михаил Козловский 2007, с. 73–74][13], то есть появились тут, наверное, под влиянием римских наблюдений. В Риме, как теперь принято считать, под сильным впечатлением от увиденной Козловским «в палатах Барберини» картины Н. Пуссена «Смерть Германика»[14] (1628, Институт искусств, Миннеаполис) возник его рисунок «Оплакивание Гектора» (середина 1770-х, Русский музей, Санкт-Петербург). А.В. Максимова добавляет в качестве еще одного возможного иконографического прототипа этой скорбной сцены античный рельеф «Надгробие воина» [Михаил Козловский 2007, с. 71]. Сейчас в этом рельефе, вмонтированном в стену Зала философов Нового дворца на Капитолии, видят «Погребение Мелеагра» (ил. 2.IV), которое, скорее всего, было частью стенки саркофага[15]. Между тем, подобное изображение, возможно, послужило опорой Рафаэлю, когда он работал над своим «Положением во гроб» (ил. 2.V) [Jones, Penny 1983, p. 43; Paoletti, Radke 2011, p. 394–395], – молодой российский художник в своем журнале отдал должное и этому произведению: «Рафаила картина представляет Снятие со креста; весьма разумно скомпонована и с большим искусством нарисована» [Мастера искусства 1969, с. 99]. Таким образом, напрашиваются два взаимосвязанных вывода: Козловский в Вечном городе, ставя во главу угла пристальное изучение антиков, поверял свои штудии работами достойных внимания «живописцев модернов», среди которых одно из первых мест занимал Рафаэль.
В Риме 1770-х годов еще были свежи воспоминания о И.И. Винкельмане (1717–1768). Наставником пенсионеров Императорской Академии художеств там по рекомендации И. И. Шувалова стал друг и верный последователь Винкельмана И.Ф. Рейфенштейн, истово занимавшийся после его смерти пропагандой неоклассицистических идей, в том числе, в среде порученной ему российской художественной молодежи [Петров 1977, с. 31, 43; Heenes 2017, p. 248][16]. Винкельман высоко оценивал обоих корифеев Ренессанса, Микеланджело и Рафаэля: «оба эти мужа знаменуют вершину искусства в эпоху его возрождения» [Винкельман 2000, с. 181]. Однако, когда было нужно выбрать лучшего между ними, он отдавал предпочтение Рафаэлю: «В общем и целом этот второй стиль [Микеланджело] при сравнении с греческим лучшей поры [Рафаэля] напоминает юношу, не знавшего счастья иметь заботливого наставника и свободно предававшегося своим страстям и бурным чувствам, – и это нашло выражение в необузданных поступках; греческий же стиль я бы сравнил с прекрасным юношей, пыл молодости которого умерялся мудрым воспитанием и обучением науками, так что само по себе замечательное создание природы, будучи приобщенным к цивилизации, обрело нравственное величие души» [Винкельман 2000, с. 90].
Влияние немецкого ученого было чрезвычайно велико в современной ему Европе, кроме того, оно подкреплялось суждениями других законодателей моды в области изящных искусств, одним из которых считался граф Франческо Альгаротти: его сочинения, как и труды Винкельмана, тотчас переводились с родного, итальянского, на другие языки. В своем «Опыте о живописи» (1762) он писал: «…Пока Рафаэль, наконец, выйдя из школы Перуджино и изучив произведения греков, никогда не теряя из виду природу, не довел искусство, в некотором роде, до высшей степени совершенства. Этот великий человек достиг если не всего, то, по крайней мере, в значительной мере тех целей, которые художник всегда должен ставить перед собой, чтобы обмануть глаз, удовлетворить разум и тронуть сердце» [Gombrich 1980, p. 126][17].
Каково было отношение Козловского к Рафаэлю и его искусству? В своем журнале молодой художник неоднократно и всякий раз с большим уважением отзывается о его произведениях, наиболее часто используя при этом слова «умный» и «благопристойный», например: «Рафаил как компоновал умно и благопристойно, так же и производил учено, с великим основанием» [Мастера искусства 1969, с. 98]. Если с первым определением все понятно, то второе требует пояснений.
В русском языке XVIII века прилагательное «благопристойный» имело два значения: во-первых, оно подчеркивало соответствие установленным правилам поведения, приличия, обычаям; во-вторых, указывало на предмет как наиболее подходящий для чего-либо, сообразный с чем-либо [Словарь русского языка 1985, с. 44–45]. В «Кратком руководстве…» Урванова «размещение есть благопристойное помещение разных предметов» в картине, включая уже известное нам правило центральной части второго плана, где должны быть представлены ее главные действующие лица [Урванов 1793, с. 94] (курсив мой. – А. С.). Там же можно найти подробное разъяснение благопристойности как уместности, причем с указанием на ее поиски у предшественников: «Память художнику служит хранилищем идей, приобретенных обозрением хороших вещей, к чему прибавляет он нечто или убавляет что-либо своим рассудком, дабы составить ту изящность, каковую мы находим в творениях древних художников, которым подражание всегда почиталось от искусных людей каждого века за надежное средство. Они имели вкус не только в рассуждении того, чтобы всякая вещь была на своем месте, но притом еще приискивали вещи казистые, важные и чрезвычайные. Казистые для того, что мелкие не столь бывают ощутительны; важные для того, что маловажные не возбуждают внимания; а чрезвычайные для того, что обыкновенные слабо поражают зрителя. При всем том сии качества были у них всегда естественны и правдоподобны[18]; чего ради и нам, подражая оным, должно стараться, чтобы рисунок был близок к натуре, имел большой вкус и различие в складе касательно разных личных свойств» [Урванов 1793, с. 32–33] (курсив мой. – А. С.). К этому следует добавить, что изящество, «благородная простота и приятность стыдливости всегда составляют наивеличайшую прелесть в красоте» [Урванов 1793, с. 21], – качества, которые Винкельман и его приверженцы связывали, прежде всего, с именем Рафаэля[19]. Следуя логике, образы урбинского гения в глазах Козловского и его современников служили камертоном сообразности с нормой, полного и исчерпывающего соответствия внешнего выражения внутреннему содержанию лица или вещи, мерилом «прямого идеала изящности, совершенства» [Словарь русского языка 1995, с. 250: ст. «Идеал»].

Фреска в Зале Константина. Апостольский дворец, Ватикан.
Винкельман, тем не менее, вновь сближает Микеланджело и Рафаэля, когда пишет о их «больших махинах»[20], если использовать словарь Козловского[21]: «Однако в тех случаях, когда произведения проработаны до мельчайших деталей, подобно „Страшному суду“ Микеланджело, к которому сохранилось множество собственноручных набросков отдельных фигур и групп … или подобно „Битве Константина“ Рафаэля, где мы находим не меньше поводов для изумления, чем герой, которому Паллада у Гомера показывает поле сражения[22], – тогда, замечу я, перед нами предстанет целостная система искусства» [Винкельман 2000, с. 454].
IV
На ватиканской фреске «Битва у Мульвийского моста между Константином и Максенцием» (1520–1524) в Зале Константина (ил. 5), Козловский, по нашему мнению, подсмотрел образы, которые А. А. Сидоров отметил в качестве его инвенции, возникшей на последнем этапе разработки темы: «телá, падающие по ступеням вниз головой» [Сидоров 1956, с. 194] в правой части листа «Российская баня» (ил. 6.IV). Эти атлетические фигуры молодых мужчин в окончательном варианте заменили собой геральдическую композицию из перекрещивающихся тел двух мужиков, картинно размахивающих шайками с водой, чтобы поддать пару, – ими заполнено это место на обоих предварительных эскизах (ил. 3, 4). Так домашние натурные наброски в Риме были заменены художником на более благородные изображения. Два упавших в воду молодых воина образуют под передними копытами коня императора-победоносца, действительно, весьма выразительную и запоминающуюся симметричную композицию в виде расширяющегося книзу раструба (ил. 7).
Козловский в своем римском журнале оставил запись и об этой грандиозной сцене, написанной Джулио Романо, одним из ближайших учеников и наследников Рафаэля, вскоре после смерти учителя: «Еще с его [Рафаэля] идеи произведена Жюль Романием [Джулио Романо]; в сей картине хорошая связка группов, также и прекрасная рисовка лошадей» [Мастера искусства 1969, с. 98][23]. «Температура» в оценке изображения понизилась в сравнении с «жаркой» у Микеланджело, но осталась достаточно высокой, а упорядоченность, достигнутая начинающим мастером в «Российской бане» с помощью искуснейшего использования правил симметрии, которая могла быть подсмотрена им в ватиканской фреске, возможно, и явилась той самой эстетической нотой классицизма, которая придает рисунку Козловского стилистическую двойственность.

I. Малый саркофаг Людовизи (см. ил. 8). Фрагмент.
II. Торс Дискобола, реставрированный как раненый воин. 1 в. н. э. – античная часть: копия торса Дискобола работы Мирона (460 г. до н. э). Отреставрирован П.-Э. Монно (1658–1733). Мрамор. Высота 148. Капитолийские музеи, Рим.
III. Падение Фаэтона. Саркофаг (см. ил. 9). Фрагмент.
IV. М. И. Козловский. Российская баня (см. ил. 1). Фрагмент.
О симметрии и принципах ее применения в исторической картине пишет в «Кратком руководстве...» Урванов: «В широте же картины должно наблюдать сообразие боков, то есть ежели на одной стороне должно представить какой предмет, то надобно, чтобы и на другой стороне был такой же высоты другой предмет или что-нибудь и меньшей высоты, но против его верхней части, чтобы оба предмета находились в равном расстоянии от середины. Таким образом, делается против человеческой фигуры иногда деревце или только ветвь от оного, или какая-нибудь часть архитектуры, или другое что, например, горка, конь, знамя, копье, облако, отменной цвет воздуха и проч.; а иногда и одного рода предметами делается сообразие сторон; но при сем наблюдается, чтобы оные не были одинаковы положением. Такое сообразие сторон художники называют симитриею. Опыт доказывает, что неприятно зрению все то, в чем хотя мало погрешено против оной. Однако не должно делать на одной линии сряду многих одинакой высоты предметов, и для того потребно наблюдать также вышепоказанные содержания, коими составляются пирамидальные фигуры. Притом надобно, чтобы многосложные картины имели по сторонам или в середине несколько фигур, более выдавшихся вперед или вдавшихся в картину; чтобы фигуры и части их не были одинаковы положением; и чтобы они лицами разнились, исключая ближнее родство; да и в сем случае должно наблюдать, чтобы лица были не в одинаком положении» (курсив мой. – А. С.) [Урванов 1793, с. 96–97].

Четкое построение планов в глубину, которое тоже отличает рисунок Козловского, находит себе соответствие не только во фризовой композиции античных рельефов, но и в «больших махинах» Джулио Романо, глаз которого был воспитан на образцах древнеримского искусства. Ф. Харт отмечает, что во фреске «Пожар в Борго» имеет место противоречие между свойственным стилю Рафаэля постепенно сужающимся в глубину визуальным конусом и отказывающимися занимать это пространство статуарными фигурами, которые собраны в группы и размещены параллельно первому плану. Он объясняет это тем, что роспись под общим наблюдением главы мастерской выполнил Джулио, который, видимо, обладал значительной свободой действий [Hartt 1958, p.15].
Именно Джулио Пиппи, прозванный Романо (1499–1546), оказывается центральной фигурой в рассуждениях Эрнста Гомбриха об имитации и ассимиляции мастерами Ренессанса в начале XVI века образов античной пластики [Gombrich 1963, p. 34–39], естественно, в той ее части, которая была им известна. В случае с «Битвой Константина» мы имеем важное свидетельство младшего современника Романо Джорджо Вазари, которое приводит в своей статье Гомбрих: «Работа эта заслуживает величайших похвал за то, как смело сгруппированы и изображены на ней раненые и мертвые, и за разнообразные и необыкновенные положения сражающихся пехотинцев и всадников... В общем же Джулио показал себя в этом произведении так, что стал ярчайшим образцом в изображении битв такого рода для всякого, кто после него делал подобные вещи. Он столькому научился по античным колоннам Траяна и Антонина, находящимся в Риме, что широко их использовал для одеяний солдат, вооружений, знамен, укреплений, заграждений, таранов и всех других военных предметов, изображенных повсюду в этой зале...» [Gombrich 1963, p. 35; Вазари 2011, с. 77]. По мнению Гомбриха, сплавляя в некое новое единство мотивы, подсмотренные им на античных памятниках, Джулио опирался не только на рельефы на упомянутых Вазари знаменитых римских монументах, но и на те, что мог видеть на римских саркофагах, стенки которых были покрыты изображениями битв. Гомбрих, в частности, уделяет внимание интересующей нас группе из двух тел, поверженных к копытам Константинова коня, проводя параллель между нею и сходным «клубком из двух павших воинов на пути героя» на так называемом Малом саркофаге Людовизи (ил. 8) [Gombrich 1963, p. 35]. Вероятную связь между сценами битвы на этом римском памятнике и фреской Джулио Романо подметил еще в XVIII веке немецкий исследователь древностей Ф. В. Б. фон Рамдор [Ramdohr 1787, S. 219], но вплоть до Гомбриха никто не подхватил его наблюдения и не развил их далее[24].

Мелкозернистый кристаллический мрамор. 69х248х97. Инв. 8569.
Национальный археологический музей, Рим. Фото А. Г. Сечина
Неизвестно точно, когда и где Малый саркофаг Людовизи был обретен, но внимательное изучение изображенной на нем битвы римлян с варварами обнаруживает среди ее переплетающихся эпизодов группы, которые могли послужить для Джулио Романо образцами. Кроме героя-полководца, скачущего по телам поверженных в земной прах врагов, это соскальзывающий с коня воин, который повернут спиной к зрителю: на саркофаге он изображен полностью обнаженным справа от центра (ил. 6.I), а на фреске – слева от Константина. Австрийский антиковед Бернард Андреэ исследовал эти визуальные «топосы», часто встречающиеся и на других римских саркофагах с изображением битв, и пришел к заключению, что их истоки следует искать в искусстве эллинистического Пергама, в картинах сражений греков с галлами. Хотя эти живописные произведения не сохранились, но поддаются реконструкции с помощью косвенных свидетельств, как письменных, так и материальных, среди которых дошедшие до нас римские памятники занимают видное место [Andreae 1956, S. 74–80]. Знаменательно, что изображения участников битв с той и другой стороны носят предельно обобщенный, идеализированный характер, сложившийся относительно визуального представления воинов еще в эллинистическую эпоху, и даже снаряжение римских солдат и полководца не имеет каких-либо собственно римских особенностей, разве что у галлов можно отметить этнические черты, которые тоже восходят к пергамскому искусству [Bober, Rubinstein 2010, p. 201, no. 153][25]. Такая «арс комбинаторика», как иногда называют современные ученые этот метод создания новых композиций из устойчивых паттернов, заимствованных из произведений предшественников[26], в эпоху господства риторического образа мышления была абсолютно нормальным способом следования древней традиции.
Эрнст Гомбрих, обнаружив на фреске Джулио Романо многочисленные отзвуки античных визуальных образов, замечает, что здесь талант лучшего ученика Рафаэля проявляется не столько в самом факте заимствований, которые в то время были обычным делом в творчестве многих художников, а в том, как они были сделаны и, что еще важнее, сколь виртуозно эти образцы были преображены живописцем: «Но как ни поразительно это сходство [с античными оригиналами], вариации, введенные Джулио, еще более интересны. Главным средством маскировки зависимости [от них] является реверсирование[27], которое является легким процессом в студийной практике, посредством прорисовки, contre-épreuve[28] и т.п.» [Gombrich 1963, p. 35]. Благодаря применению этих приемов римский мастер никогда не имитировал изображение, соблюдая точность, другими словами, не копировал его, поэтому и найти прообразы бывает далеко не всегда легко. Что касается особо интересующей нас группы из двух поверженных противников Константина, один из которых уже мертвенно бледен, а второй еще жив, то здесь Романо в качестве реверсирования мастерски применил поворотную симметрию, а чтобы закамуфлировать ее, добавил падающему воину щит.
Восхищаясь воистину безграничной способностью художника добиваться того, что теоретики искусства ренессансной Италии называли varietà — разнообразием, Гомбрих неслучайно вновь вспоминает риторику: «И точно так же, как стилист, овладевший законами цицероновской грамматики, может даже улучшить фразу Цицерона, так и Джулио чувствовал себя достаточно мастером анатомии и движения, чтобы играть своими вариациями на тему древних изобретений и даже совершенствовать их с помощью изучения природы» [Gombrich 1963, p. 35]. Ведь и сам термин varietà проник в теорию и практику изобразительного искусства эпохи Возрождения из античной риторики, ведя свою родословную от латинского varietas.
Следует признать, что «Краткое руководство...» Урванова фактически излагает теоретические постулаты, общие для художественной практики Джулио Романо и Михаила Козловского, не забывая ни о планах, ни о симметрии («равнообразии»), ни о разнообразии («разноте»): «В рассуждении большого исторического рода искусство состоит в вымыслах, чтобы всякое историческое деяние представить искусною рукою так, чтобы оно, изображенное, по единым тела движениям могло привлечь вникание зрителя и заставить его чувствовать силу изображения. ...Располагать же фигуры надлежит по планам, где которой быть пристойнее, стараясь дать красоту картине через соединение или разделение оных, ставя их приятно и прилично и наблюдая от середины картины по сторонам ее некоторую соответственность их целых или частей их, что симитриею или равнообразием называется, которой можно помогать и другими предметами. Притом надлежит изъявлять лучшие части фигур, делая из них целых и частей их образ пирамиды[29], также наблюдая во всем противоположность, разноту и взаимную связь без всякого упущения в рассуждении той натуры, какой требует изображаемое деяние, например, благородной ли, простой ли или гнусной и безобразной. Страсти же и чувствования выражаются взглядами и чертами лица, и приличным движением головы, рук, ног и корпуса...» (курсив мой. – А. С.) [Урванов 1793, с. 51–52].
Из предыдущей цитаты видно, что «разнота» теснейшим образом связана с «противоположностью», о которой в другом месте своего трактата Урванов пишет как об одном из условий сотворения в произведении красоты: «Красота состоит в правильном размере, расстоянии и соединении вещей, и в противоположности членов, имеющих какую-либо геометрическую фигуру» (курсив мой. — А. С.) [Урванов 1793, с. 19]. Рассуждения об особой важности соблюдения принципа противоположности в изобразительном искусстве встречаются в разных аспектах в «Кратком руководстве…» неоднократно. Безусловно, важнейшим претворением этого правила в художественной практике античности, Ренессанса и классицизма был контрапост.
V
Американский историк искусства Дэвид Саммерс – один из тех исследователей искусства итальянского Ренессанса, который развил в своих трудах еще достаточно робко высказанные Гомбрихом идеи о связи живописи того времени с красноречием Цицерона и Квинтилиана. Он посвятил большую статью двум параллельным феноменам вербальной и визуальной риторики – антитезису и контрапосту, соответственно [Summers 1977], причем, контрапост в данном случае следует понимать не в узком смысле, как принято в отечественном искусствоведении[30], а в широком и, отчасти, абстрактном. Статья начинается с уточнения находки в Риме Бельведерского торса и переатрибуции одной старинной записи, которую длительное время связывали с этим важным событием в истории ренессансного Рима. Саммерс небезосновательно утверждает, что на самом деле речь шла не о знаменитом ватиканском памятнике, чье счастливое обретение случилось примерно на столетие раньше, а об открытии в Вечном городе в начале XVI века торса «Дискобола», который был идентифицирован римской копией творения Мирона намного позже, успев к тому времени принять совершенно иную форму – римского гладиатора (ил. 6.II). Тогда же, вскоре после изъятия из земли, этот обломок древней статуи был приобретен Джулио Романо и, как считает Саммерс, воплотился в фигурах тех самых воинов на фреске «Битва Константина», о которых идет речь в нашей статье [Summers 1977, p. 336, 339].
Для Саммерса «Дискобол» имеет особое значение в качестве связующего звена между теорией античного красноречия и практикой изобразительного искусства. Квинтилиан в «Риторических наставлениях» (II, 14, 9–11), рассуждая о роли фигур мысли и речи в элоквенции, приводит в пример эту статую Мирона: «В прямом и неподвижном теле нет ни малой красоты. Прямо изваянная или написанная голова, опущенные руки и сжатые ноги, сверху донизу делают изображение принужденным и неприятным. А наклонение, или, да так скажу, движение придает некоторую живость. А потому руки и лицо принимают тысячу видов. Одни их таковых изображений кажутся стремящимися и бегущими: другие представляются сидящими, или наклонившимися; иные наги или одеты, а некоторые в том и другом состоянии вместе. Чтó можно видеть в уродливейшем и труднейшем положении, как метатель круга Мирона? Но если бы вздумал кто осуждать хотя мало чтó в сей статуе, не показал бы крайнего своего невежества в художестве, в коем особенного удивления достойна та самая новость и трудность работы? Таковую же красоту и приятность придают слову фигуры в мыслях и речениях. Ибо изменяют они некоторым образом правильность и бывают тем самым разительнее, что отступают от обыкновенного образа речи» [Квинтилиан 1834, с. 137–138]. Антитезис в латыни мог обозначаться несколькими синонимичными словами, одно из которых – contrapositum, от которого произошло итальянское слово contrapposto. В ораторском искусстве эта фигура речи появилась благодаря софисту Горгию, который, по мнению самих древних, злоупотреблял ею, используя слишком часто [Summers 1977, p. 345, note 48; 347, note 60]. Но смысл риторического противоположения сформулировал Аристотель, и его толкование оказалось столь четким и точным, что прошло сквозь века [Summers 1977, p. 347–348][31]. Определение греческого философа разграничивает весьма близкие, но принципиально разные для любого искусства, как словесного, так и визуального, понятия противоположностей и антитезиса (контрапоста): противоположности, например, свет и тьма, даль и близость, просто противостоят друг другу, хотя имеют потенцию превратиться в антитезис, если благодаря зримо присутствующему или подозреваемому третьему соединятся в одно целое [Summers 1977, p. 351]. Таким образом, в живописи свойства антитезиса проявляет светотень, а в скульптуре – рельеф, который по выражению Леонардо да Винчи, может и должен быть передан и в живописи светотенью[32]. Абстрактное понятие контрапоста в искусстве могло находить самое разное выражение, в том числе намного более явное, пример которого и дают сведущему зрителю несчастные молодые воины фрески Джулио Романо, изысканно красиво погибающие у него на глазах. Столь искусно созданный визуальный антитезис – контрапост – и привлек внимание Михаила Козловского.
Урванов дает довольно подробное описание контрапоста, когда заводит речь «Об одеждах и украшении» в исторической живописи, выходя при этом за рамки простой орнаментации изображения: «Еще украшаются фигуры соединением, разделением, противуположностию и соответствием. Соединением, когда фигуры и другие вещи соединены будут в групы, отчего каждая фигура порознь быть может красивее, ибо разность их делается ощутительнее. Разделением, то есть чтобы групы, а иногда и порознь фигуры, не одним делом занимались; но одни бы в главном действии, а другие в служебном были; иные бы кстати отходили или приходили; а иные бы зрителями или слушателями были. Противуположностию, то есть чтобы не были фигуры и части их в одинаком положении; например, когда изображен будет мученик, имеющий очи, устремленные к небу и единую руку простертую к оному, а другую – к мучителям или к орудиям его мучения, или обе руки к небу простертые, то и будет в членах противоположность. Соответствием, когда воину дан будет убор пристойный его мужественному духу и проч.» (курсив И.Ф. Урванова. – А.С.) [Урванов 1793, с. 97–98]. Знаменательно, что, не используя термин contrapposto, автор «Краткого руководства…» оперирует тут понятиями, которые со времен Аристотеля были свойственны именно риторическим трактатам, то есть уже не только фигурально, но и фактически сравнивает труд художника с ораторским искусством[33].
Российский скульптор учился в Риме не только находить образцы для подражания, но и преображать их, приспосабливая под свои нужды в соответствии с той или иной собственной целью. Как справедливо замечает Максимова, «обратный поворот фигур не составлял труда для Козловского…» [Михаил Козловский 2007, с. 72]. Этому он мог научиться у своих великих предшественников, включая Микеланджело, Рафаэля и Джулио Романо. Не сохранилось очевидных свидетельств, откуда последний заимствовал образ павшего воина (которого методом поворотной симметрии еще и перевернул примерно на 90 градусов) и как именно шел процесс преображения оригинала. Предположение Саммерса о том, что приобретенный живописцем торс «Дискобола» послужил для него отправной точкой [Summers 1977, p. 339], не лишено смысла, но никак не может быть доказано[34]. На наш взгляд, гипотетично можно представить себе этот процесс, используя метод подстановки: образ падающего Фаэтона, известный по нескольким дошедшим до нас рисункам Микеланджело, чрезвычайно похож на воинов Джулио Романо, который и сам создал в 1627 году плафон «Падение Фаэтона» на потолке Зала орлов [Hartt 1958, p. 124][35] палаццо дель Те в Мантуе, причем главный герой фрески является своего рода визуальной контаминацией этих двух тел.
VI
Микеланджело был захвачен темой «Падение Фаэтона», он намеревался сделать подарок своему молодому другу Томмазо деи Кавальери (1509/10–1587), и когда наиболее проработанный из дошедших до нас трех рисунков (ил. 9.II) оказался в сентябре 1533 года в Риме у адресата, то, как достоверно известно, всякий любитель изящных искусств, включая папу Климента VII и всесильного кардинала Ипполито Медичи, спешил его увидеть. Современный исследователь и большой знаток графики Микеланджело Майкл Хёрст справедливо отметил, что никогда прежде рисункам не придавали такого большого значения [Hirst 1989, p. 112]. Прообразом для сцены падения самонадеянного героя античного мифа и собственно его фигуры, как считают, послужил римский саркофаг, который в те времена находился в Риме у церкви Санта-Мария-ин-Арачели, рядом с домом, где жил Томмазо Кавальери [Hirst 1989, p. 114][36]. Теперь он в отреставрированном виде находится в Галерее Уффици (ил. 9). Действительно, поза Фаэтона на рисунке Микеланджело зеркально повторяет таковую на саркофаге, хотя следует заметить, что маэстро мог видеть древний памятник более руинированным. Хёрст хронологически выстраивает сохранившиеся три рисунка на этот сюжет таким образом, что наиболее законченный из них, который теперь хранится в Виндзоре, занимает срединное положение между двумя другими: из коллекции Британского музея (ил. 9.I) и венецианской Галереи Академии (ил. 9.III). По его мнению, в лондонском изводе изображение главного героя наиболее близко античному образцу, и, сравнивая все три рисунка между собой (ил. 9.I–III), можно проследить, как Микеланджело постепенно удалялся от скульптурного оригинала, преображая его [Hirst 1989, p. 114].

Микеланджело Буонарроти. Рисунки:
I. Падение Фаэтона. 1531–1533. Бумага, черный мел поверх подготовительного рисунка пером. 31,2х21,5 (лист бумаги). Инв. 1895,0915.517. Британский музей, Лондон.
II. Падение Фаэтона. 1533. Бумага, черный мел. 41,3х23,4 (лист бумаги). Инв. RCIN 912766. Королевская коллекция, Виндзорский замок.
III. Падение Фаэтона. 1533. Бумага, черный мел. 39,4х25,5 (лист бумаги). Инв. 177. Галерея Академии – Кабинет рисунков и эстампов, Венеция.
Примечательно, что в серии уникальной графики, созданной великим художником для Кавальери, есть пример применения маэстро способа перевода изображения в новое качество с помощью прорисовки контуров рисунка на обратной стороне листа в контражуре, причем, лежащий великан Титий стал в ходе этой операции воскресающим Христом (ил. 10)! [Hirst 1989, p. 113, 115] По сути, Микеланджело применил тут уже известный нам по творческой мастерской Джулио Романо прием contre-épreuve, помимо зеркальной симметрии осуществив еще и поворот ранее созданного изображения на 90 градусов по часовой стрелке, но уже в вертикальной плоскости.
Козловский в «Российской бане» повернул правую фигуру упавшего ничком на ступени мыльни мужчины относительно лежащего на спине парня слева на 180 градусов, таким образом, завершив, можно сказать, замкнув вращение. Создавая свой вариант контрапоста, российский художник учел различие мотивов и не стал рабски копировать увиденное им в Зале Константина. Благодаря полной симметрии группа из двух тел стала классически ясной, а сами герои сцены успокоились в состоянии глубокого обморока. Такая полнота выражения ситуации в композиции значительно ближе классически ясному равновесию Рафаэля, чем бурной экспрессии Микеланджело. Эрвин Панофский, уделив достаточно много внимания рисункам для Томмазо Кавальери в своих «Этюдах по иконологии», в заключение пишет: «Неистовство, пусть и сдерживаемое, его contrapposti выражало борьбу природного и духовного» [Панофский 2009, с. 353]. Сбалансированность, присущая творческому почерку Рафаэля, как выше уже говорилось, находила большее понимание у теоретиков классицизма, а молодой российский пенсионер не мог не прислушиваться, например, к советам и указаниям Рейфенштейна, хотя его собственный стиль, кристаллизовавшийся в Риме, по всей видимости, впитывал в себя самые разнообразные и в чем-то противоположные влияния. Так, Джулио Романо ориентировался в своем творчестве на древнеримские образцы даже в большей степени, чем на гармонизирующую «греческую» ауру своего учителя, которая сформировалась вне циклопических римских руин и вряд ли вообще могла быть полностью усвоена даже его непосредственными учениками[37]. То, чему нельзя было обучиться, заменялось риторическими приемами, что тоже могло приводить к поразительным и поражающим результатам[38]. Козловский, судя по записи в его журнале, восхищался последней собственноручной работой Рафаэля – алтарным образом «Преображение» [Мастера искусства 1969, с. 100]. В картине, законченной учениками, обращает на себя внимание стоящая на коленях молодая женщина на переднем плане, которая указывает апостолам на бесноватого мальчика. Этот персонаж, исполнение которого приписывают Джулио Романо [Hartt 1958, p. 15; Гращенков 1971, с. 191–192], является зеркальным отражением женщины, изображенной в правой части фрески Рафаэля «Изгнание Элиодора» [Paoletti, Radke 2011, p. 421]. Ученик следовал учителю согласно своему пониманию гармонии в искусстве, почти буквально применив в «Преображении» симметричное преобразование.

I. Наказание Тития (изображение повернуто на 90º по часовой стрелке). 1532. Бумага, черный мел. 19,0х33,0 (лист бумаги).
Инв. RCIN 912771. Королевская коллекция, Виндзорский замок.
II. Воскресающий Христос (на обороте того же листа). Древесный уголь.
Изобретенный Джулио Романо мотив связки тел физически сильных людей, но обреченных на смерть, был подмечен не только Козловским (ил. 7): даже такое поворотное в сторону романтизма произведение, как «Плот „Медузы“» (1819) Теодора Жерико, заключает в себе явное влияние «Битвы у Мульвийского моста» как раз в отношении образов этих внешне прекрасных, молодых, но несчастных мужчин[39]. Как и Жерико впоследствии, русский художник, заимствуя у великих предшественников творческие хитрости и навыки, оттачивал свое мастерство не только в построении контрапоста как фигуры визуальной риторики, но и вел поиски наилучшего выражения высокого стиля в искусстве. Безусловно, В. В. Стасов был бы более доволен, оставь Козловский в окончательном варианте «Российской бани» бородатых русских мужиков, ритмично взмахнувших шайками[40], но пенсионер Императорской Академии художеств поступился своими натурными наблюдениями в пользу возвышенного тона произведения.
Если вернуться к фигуре античного Фаэтона, которая послужила как будто лишь формальным образцом мастерам эпохи Возрождения, то и для них в трагедии дерзкого смертного присутствовал, наряду с мотивом наказанной гордыни, заметный привкус подлинно высокого героизма. Замечено, что Данте в «Божественной комедии», книге, которую мастера Ренессанса, вроде Микеланджело и Джулио Романо, знали едва ли не наизусть, вспоминает персонажей античных мифов Икара и Фаэтона («Ад», песнь XVII), чтобы выразить испытываемое им ощущение возвышенного страха, в основе которого лежит перехватывающее дыхание переживание грандиозного пространства вкупе с копошащимся в нем чудовищем – Герионом [Etlin 2012, p. 267–268][41]. И Овидий заканчивает свой рассказ о гибели сына Феба в «Метаморфозах» (II, 327–328) такой эпитафией, начертанной на камне над его могилой:
«Здесь погребен Фаэтон, колесницы отцовской возница;
Пусть ее не сдержал, но дерзнув на великое, пал он»
(курсив мой. – А. С.) [Овидий 1977, с. 63].
Литература
- Аверинцев 1996 – Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции: сб. ст. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Аристотель 1978 – Аристотель. Риторика / пер. с др.-греч. Н. Платоновой // Античные риторики / под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд-во МГУ, 1978. С. 15–164.
- Бобриков 2012 – Бобриков А.А. Другая история русского искусства. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Вазари 2011 – Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 т. / пер. с итал. М. Глобачева. М.: Книжный клуб «Книговек», 2011. Т. 4.
- Винкельман 2000 – Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения / Изд. подгот. И.Е. Бабанов. СПб.: Алетейя, 2000.
- Гаврилова 1983 – Гаврилова Е.И. Русский рисунок XVIII века. Л.: Художник РСФСР, 1983.
- Гращенков 1971 – Гращенков В.Н. Рафаэль. М.: Искусство, 1971.
- Каганович 1963 – Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963.
- Квинтилиан 1834 – Квинтилиан М.Ф. Двенадцать книг риторических наставлений / пер. с лат. А. Никольского: в 2 ч. СПб.: типография Императорской Российской Академии, 1834. Ч. 2.
- Коваленская 1964 – Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М.: Искусство, 1964.
- Леонардо да Винчи 2009 – Леонардо да Винчи об искусстве / пер. с ит. А. Губера // Кларк К. Леонардо да Винчи. Творческая биография / пер с англ. А. Глебовской. СПб.: Вита Нова, 2009. С. 239–329.
- Мастера искусства 1969 – Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т. 6: Искусство народов СССР XIV–XIX вв. / под ред. А.А. Федорова-Давыдова. М.: Искусство, 1969.
- Михаил Козловский 2007 – Михаил Козловский, 1753–1802 // Русский музей представляет: альманах. СПб.: Palace Editions, 2007. Вып. 180.
- Митчелл 2017 – Митчелл У.Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / пер. с англ. В. Дрозда. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.
- Овидий 1977 – Овидий. Метаморфозы / пер. с лат. С. Шервинского. М.: Художественная литература, 1977.
- Панофский 2009 – Панофский Э. Этюды по иконологии: Гуманистические темы в искусстве Возрождения / пер. с англ. Н.Г. Лебедевой, Н.А. Осминской. СПб.: Азбука-классика, 2009.
- Петрарка 2004 – Петрарка Ф. Письма / пер., послесл., коммент. В.В. Бибихина. СПб.: Наука, 2004..
- Петров 1977 – Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский. М.: Изобразительное искусство, 1977.
- Преснов 1928 – Преснов Г. Античные реминисценции в новом русском искусстве (Материалы для истории русского классицизма по памятникам Русского музея) // Русский музей. Материалы по русскому искусству. Л.: Academia, 1928. Т. 1. С. 221–233.
- Рисунок и акварель в России 2005 – Рисунок и акварель в России. XVIII век: каталог выставки / авт.-сост. Е. И. Гаврилова и др. // Русский музей представляет: альманах. СПб.: Palace Editions, 2005.Вып. 80.
- Сенека 1986 – Сенека. Нравственные письма к Луцилию. переизд., пер., послесл. и примеч. С. А. Ошерова. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1986.
- Сидоров 1956 – Сидоров А.А. Рисунок старых мастеров. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956.
- Сиповская 2002 – Сиповская Н.В. «Цитата» в культуре XIX века // XIX век: целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств: сб. ст. / Гос. институт искусствознания, Гос. Третьяковская галерея; отв. ред. Т.Л. Карпова. М.: Пинакотека, 2002. С. 99–106.
- Словарь русского языка 1985 – Словарь русского языка XVIII века / гл. ред. Ю. С. Сорокин, ред. Е. Э. Биржакова, Л.Л. Кутина. Вып. 2 (Безпристрастный – Вейэр). Л.: Наука, 1985.
- Словарь русского языка 1989 – Словарь русского языка XVIII века / гл. ред. Ю.С. Сорокин, ред. Е.Э. Биржакова. Вып. 5. Л.: Наука, 1989.
- Словарь русского языка 1995 – Словарь русского языка XVIII века / гл. ред. Ю.С. Сорокин, ред. И.М. Мальцева, Е.Э. Биржакова. Вып. 8. СПб.: Наука, 1995.
- Словарь русского языка 2001 – Словарь русского языка XVIII века / гл. ред. Ю.С. Сорокин, ред. Е.Э. Биржакова, Л.А. Войнова. Вып. 12. СПб.: Наука, 2001.
- Степанов 2007 – Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007..
- Таруашвили 2004 – Таруашвили Л.И. Искусство Древней Греции. Словарь. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Урванов 1793 – [Урванов И.Ф.] Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах / сочинено для учащихся художником И. У. СПб.: печатано в Типографии Морского шляхетного кадетского корпуса, 1793.
- Andreae 1956 – Andreae B. Motivgeschichtliche Untersuchungen zu den römischen Schlachtsarkophagen. Berlin: Gebr. Mann, 1956.
- Bober, Rubinstein 2010 – Bober P.P., Rubinstein R. Renaissance Artists and Antique Sculpture: A Handbook of Sources. 2nd ed., rev. and updated. Turnhout: Harvey Miller, 2010. (Studies in Medieval and Early Renaissance Art History; 62).
- Gombrich 1963 – Gombrich E.H. The Style all’Antica: Imitation and Assimilation // The Renaissance and Mannerism: Studies in Western Art. Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art. V. 2. Princeton: Princeton University Press, 1963. P. 31–41.
- Gombrich 1980 – Gombrich E.H. Raphael: A Quincentennial Address // Gombrich E.H. Gombrich on the Renaissance. V. 4: New Light on Old Masters. London: Phaidon, 1980. P. 125–141.
- Gombrich 1996 – Gombrich E.H. The Essential Gombrich. Selected Writings on Art and Culture / Ed. by R. Woodfield. London: Phaidon, 1996.
- Etlin 2012 – Etlin R.A. Architecture and the Sublime // The Sublime: from Antiquity to the Present / Ed. by T.M. Costelloe. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 230–273.
- Hartt 1958 – Hartt F. Giulio Romano. New Haven: Yale University Press, 1958. V. 1.
- Heenes 2017 – Хеенес Ф. Иоганн Фридрих Рейфенштейн (1719–1793), агент по приобретению предметов искусства, антиквар и надворный советник, и его многообразные связи с Санкт-Петербургом // Antike und Klassizismus – Winckelmanns Erbe in Russland = Древность и классицизм: наследие Винкельмана в России: Akten des internationalen Kongresses. St Petersburg, 30.09–01.10.2015 / Hrsg. von M. Kunze u. K. Lappo-Danilevskij. Ruhpolding: Franz Philipp Rutzen, 2017. S. 237–251.
- Hirst 1989 – Hirst M. Michelangelo and his Drawings. New Haven; London: Yale University Press, 1989.
- Jones, Penny 1983 – Jones R.J., P.N. Raphael. New Haven: Yale University Press, 1983.
- Lazzarini 2010 – Lazzarini E. Nudo, arte e decoro. Oscillazioni estetiche negli scritti d’arte nel Cinquecento. Pisa: Pacini, 2010.
- Paoletti, Radke 2011 – Paoletti J.T., Radke G.M. Art in Renaissance Italy. London: Laurence King, 2011.
- Ramdohr 1787 – Ramdohr F.W.B. Über Malerei und Bildhauerarbeit in RomLeipzig: Weidmann, 1787. Bd. 2.
- Schreiber 1880 – Schreiber Th. Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1880.
- Summers 1977 – Summers D. Contrapposto: Style and Meaning in Renaissance Art // The Art Bulletin. 1977. V. 59. No 3. P. 336–361.
- Vogel 1920 – Vogel J. Giulio Romano. Biographisches über seine Jugend und Lehrzeit // Monatshefte für Kunstwissenschaft. 1920. Bd. 13. No 1. S. 52–66.
References
1. Averintsev, S.S. (1996), Ritorika i istoki evropeyskoy literaturnoy traditsii. Sbornik statey [Rhetoric and the Origins of the European Literary Tradition. Collection of Papers], Yazyki russkoy kultury, Moscow, Russia.
2. Aristotel’ Ritorika [Aristotle’s Rhetoric], (1978), transl. from the Greek by N. Platonova, Antichnye ritoriki, ed. by A.A. Takho-Godi, Moscow State University, Moscow, Russia, pp. 15–164.
3. Bobrikov, A.A. (2012), Drugaya istoriya russkogo iskusstva [Another History of Russian Art], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, (Ocherki vizualnosti [Essays of Visuality]).
4. Vasari, G. (2011), Zhizneopisaniya naibolee znamenitykh zhivopistsev, vayateley i zodchikh [Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects], transl. from Italian by M. Globachev, Knizhny klub Knigovek, Moscow, Russia, V. 4.
5. Winckelmann, J.J. (2000), Istoriya iskusstva drevnosti. Malye sochineniya [History of Ancient Art. Short Essays], ed. by I. E. Babanov, Aleteya, St Petersburg, Russia.
6. Gavrilova, E.I. (1983), Russky risunok XVIII veka [Russian Drawings of the 18th Century], Khudozhnik RSFSR, Leningrad, Russia.
7. Grashchenkov, V.N. (1971), Rafael [Raphael], Iskusstvo, Moscow, Russia.
8. Kaganovich, A.L. (1963), Anton Losenko i russkoe iskusstvo serediny XVIII stoletiya [Anton Losenko and Russian Art of the Mid-18th Century], Arts Academy of the USSR, Moscow, Russia.
9. Quintilian (1834), Dvenadtsat knig ritoricheskikh nastavleniy [Institutio Oratoria], transl. from Latin by A. Nikolsky, Imperial Russian Academy of Sciences, St Petersburg, Russia.
10. Kovalenskaya, N.N. (1964), Russky klassitsizm. Zhivopis’. Skul’ptura. Grafika [Russian Classicism. Painting. Sculpture. Graphics], Iskusstvo, Moscow, Russia.
11. Leonardo da Vinci (2009), “Leonardo da Vinchi ob iskusstve” [Leonardo da Vinci on Art], transl. from the Italian by A. Guber, Leonardo da Vinchi. Tvorcheskaya biografiya [Leonardo da Vinci. An Account of His Development as an Artist] by K. Clark, transl. from the English by A. Glebovskaya, Vita Nova, St Petersburg, Russia, pp. 239–329.
12. Fedorov-Davydov, A.A. (1969), ed., Mastera iskusstva ob iskusstve [Artists on Art], V. 6: Iskusstvo narodov SSSR XIV–XIX vekov [Art of the peoples of the USSR of the 14th–19th centuries], Iskusstvo, Moscow, Russia.
13. State Russian Museum (2007), Mikhail Kozlovsky. 1753–1802, Palace Editions, St Petersburg, Russia.
14. Mitchell, W.J.T. (2017), Ikonologiya. Obraz. Tekst. Ideologiya [Iconology. Image. Text. Ideology], transl. from the English by V. Drozd, Kabinetny ucheny, Ekaterinburg, Russia.
15. Ovid (1977), Metamorfozy [Metamorphoses], transl. from the Latin by S. Shervinsky, Khudozhestvennaya literatura, Moscow, Russia.
16. Panofsky, E. (2009), Etyudy po ikonologii: Gumanisticheskie temy v iskusstve Vozrozhdeniya [Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance], transl. from the English by N.G. Lebedeva and N.A. Osminskaya, Azbuka-klassika, St Petersburg, Russia.
17. Petrarca, F. (2004), Pisma [Letters], transl. from the Latin, afterword, and comments by V.V. Bibikhin, Nauka, St Petersburg, Russia.
18. Petrov, V.N. (1977), Mikhail Ivanovich Kozlovskii, Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia.
19. Presnov, G. (1928), “Antichnye reministsentsii v novom russkom iskusstve (Materialy dlya istorii russkogo klassitsizma po pamyatnikam Russkogo muzeya” [Ancient Reminiscences in the New Russian Art (Studies for the History of Russian Classicism Based on the Objects of the Russian Museum)], Russky muzey. Materialy po russkomu iskusstvu [Russian Museum. Studies on Russian art], Academia, Leningrad, Russia, V. 1, pp. 221–233.
20. State Russian Museum (2005), Risunok i akvarel’ v Rossii. XVIII vek [Drawing and Watercolors in Russia. 18th Century], ed. and comp. by E.I. Gavrilova et al., Palace Editions, St Petersburg, Russia.
21. Seneca (1986), Nravstvennyye pisma k Lutsiliyu [Moral Letters to Lucilius], transl. from the Latin, afterword, and comments by S.A. Osherov, Kemerovo Book Publishing House, Kemerovo, Russia.
22. Sidorov, A.A. (1956), Risunok starykh masterov [Old Master Drawings], Academy of Sciences of the USSR, Moscow, Russia.
23. Sipovskaya, N. V. (2002), “Tsitata v kulture XIX veka” [‘Quote’ in the Culture of the 19th Century], XIX vek: tselostnost i protsess. Voprosy vzaimodeystviya iskusstv. Sbornik statey [19th Century: Integrity and Process. Issues of Interaction of Arts. Collection of Papers], ed. by T. L. Karpova, Pinakoteka, Moscow, Russia, pp. 99–106.
24. Sorokin, Yu.S. (1985), ed., Slovar russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian Language of the 18th Century], Nauka, Leningrad, Russia,. Issue 2
25. Sorokin, Yu.S. (1989), ed., Slovar russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian Language of the 18th Century], Nauka, Leningrad, Russia. Issue 5
26. Sorokin, Yu.S. (1995), ed., Slovar russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian Language of the 18th Century], Nauka, St Petersburg, Russia. Issue 8
27. Sorokin, Yu.S. (2001), ed., Slovar russkogo yazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian Language of the 18th Century], Nauka, St Petersburg, Russia. Issue 12
28. Stepanov, A.V. (2007), Iskusstvo epokhi Vozrozhdeniya: Italiya. XVI vek [Art of Renaissance: Italy. 16th Century], Azbuka-klassika, St Petersburg, Russia.
29. Taruashvili, L.I. (2004), Iskusstvo Drevney Gretsii. Slovar. [Ancient Greece Art. Dictionary], Yazyki slavyanskoy kultury, Moscow, Russia.
30. [Urvanov, I.F.] (1793), Kratkoe rukovodstvo k poznaniyu risovaniya i zhivopisi istoricheskogo roda, osnovannoe na umozrenii i opytakh, sochineno dlya uchashchikhsya khudozhnikom I. U. [A Short Guide to the Knowledge of Drawing and Painting of the Historical Genre Based on Speculation and Experiments, Composed for Students by the Artist I. U.], Naval Gentry Cadet Corps, St Petersburg, Russia.
31. Andreae, B. (1956), Motivgeschichtliche Untersuchungen zu den römischen Schlachtsarkophagen, Gebr. Mann, Berlin, Germany.
32. Bober, P.P. and Rubinstein, R. (2010), Renaissance Artists and Antique Sculpture: A Handbook of Sources, 2nd ed., rev. and updated., Harvey Miller, Turnhout.
33. Gombrich, E. H. (1963), “The Style all’Antica: Imitation and Assimilation”, The Renaissance and Mannerism: Studies in Western Art. Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art., Princeton University Press, Princeton, V. 2, pp. 31–41.
34. Gombrich, E.H. (1980), “Raphael: A Quincentennial Address”, Gombrich on the Renaissance. V. 4: New Light on Old Masters, Phaidon, London, pp. 125–141.
35. Gombrich, E.H. (1996), The Essential Gombrich. Selected Writings on Art and Culture, ed. by R. Woodfield, Phaidon, London.
36. Etlin, R.A. (2012), “Architecture and the Sublime”, The Sublime: from Antiquity to the Present, ed. by T.M. Costelloe, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 230–273.
37. Hartt, F. (1958), Giulio Romano, Yale University Press, New Haven, V. 1.
38. Heenes, V. (2017), “Johann Friedrich Reifenstein (1719–1793) – Kunstagent, Antiquar und Hofrat: Seine vielfältigen Beziehungen nach Sankt Petersburg”, Antike und Klassizismus — Winckelmanns Erbe in Russland. Akten des internationalen Kongresses. St. Petersburg, 30.09–01.10.2015, hrsg. von M. Kunze u. K. Lappo-Danilevskij, Franz Philipp Rutzen, Ruhpolding, Germany, pp. 237–251.
39. Hirst, M. (1989), Michelangelo and his Drawings, Yale University Press, New Haven, London.
40. Jones, R.J., and Penny, N. (1983), Raphael, Yale University Press, New Haven.
41. Lazzarini, E. (2010), Nudo, arte e decoro. Oscillazioni estetiche negli scritti d’arte nel Cinquecento, Pacini, Pisa, Italy.
42. Paoletti, J.T. and Radke, G.M. (2011), Art in Renaissance Italy, Laurence King, London.
43. Ramdohr, F.W.B. (1787), Über Malerei und Bildhauerarbeit in Rom, Weidmann, Leipzig, Germany, V. 2.
44. Schreiber, Th. (1880), Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom, Wilhelm Engelmann, Leipzig, Germany.
45. Summers, D. (1977), “Contrapposto: Style and Meaning in Renaissance Art”, The Art Bulletin, V. 59, No. 3, pp. 336–361.
46. Vogel, J. (1920), “Giulio Romano. Biographisches über seine Jugend und Lehrzeit”, Monatshefte für Kunstwissenschaft, V. 13, No. 1, pp. 52–66.
[1] Российская баня. 1778. Бумага, сангина, мел, графитный карандаш. 39,5 × 84,3 см. Справа внизу тушью пером подпись: Въ Римѣ 1778. Козловской. Поступил в 1903 году от В. В. Стасова. Гос. Русский музей, Санкт-Петербург. Инв. №: Р-5891: Каталог произведений М.И. Козловского [Михаил Козловский 2007, с. 90].
[2] Аннотация подписана инициалами: Н. У.
[3] Точнее понять смысл выражения Козловского «жаркая связка группов» помогает словарь «терминов в русском языке, касающихся до художеств», составленный его современником князем Д.А. Голицыным: «Груп – собрание многих фигур. Когда из оных многие в картине находятся должно их удалить друг от друга, и оставить между ними пустые места, дабы избежать тем конфузию. … Жар – значит экспрессии оживленные в фигурах, смелые и означенные черты, кои характер означивают представленных предметов, инвенция и композиция всего того, что находится в картине. Краска свежая и острая» [Каганович 1963, с. 312]. К этим определениям необходимо добавить еще одно: «Экспрессия – верное и натуральное изображение предметов, а особливо, движением телесных, производимых душевными страстьми. Экспрессия, есть душа живописи, рисунок и колер – ее тело» [Каганович 1963, с. 316]. Таким образом, молодого русского художника поразил во фреске Микеланджело ее общий эмоциональный накал, пронизывающий все объединенные в группы фигуры, телесная мощь и жесты которых в равной степени служат выражению обуревающих их сильных страстей.
[4] Pittore moderno (итал.) – современный живописец, то есть художник Нового времени. Этот итальянизм свидетельствует о том, что российский пенсионер за время пребывания в Риме хорошо овладел итальянским языком.
[5] В XVIII веке род и написание слова «группа» в русском языке были еще неустойчивыми, то есть оно могло быть как женского, так и мужского рода, писалось как с одним «п», так и с двумя [Словарь русского языка 1989, с. 253].
[6] Мы следуем здесь за У. Дж. Т. Митчеллом, который различает «образ» (image) и «изображение» (picture): «Образ – это то, что возникает в изображении и переживет его разрушение – в памяти, нарративе, копиях и следах на других носителях… Следовательно, изображение – это образ, явленный с помощью материала или в определенном месте… Образ не может быть явлен вне того или иного носителя, но при этом он не ограничен материалом и может быть перенесен с одного материала на другой» [Митчелл 2017, с. 10–11].
[7] См. вторую главу десятой книги «Риторических наставлений» Квинтилиана (другое название – «Наставление оратору»), которая целиком посвящена подражанию (imitatio) [Квинтилиан 1834, с. 250–260].
Сенека затрагивает эту тему в «Нравственных письмах к Луцилию» (Письмо LXXXIV, 3–7): «Мы должны подражать пчелам, которые странствуют в поисках медоносных цветов, а потом складывают принесенное в соты, где оно и переваривается в мед… Мы должны… вычитанное из разных книг разделять, потому что порознь все сохраняется лучше, а потом, употребив все тщание и все способности ума, слить разные пробы и добиться единого вкуса, так что, даже если будет видно, откуда что-то взято, оно должно выглядеть иным, нежели там, откуда было взято. Ведь то же самое в нашем теле делает без нашего старанья сама природа. Съеденная пища лишь обременяет желудок, покуда остается, какой была, и плавает в нем твердыми кусками; только изменившись, превращается она в силу и кровь. Пусть то же самое будет и со всем, что питает наш ум: нельзя, чтобы почерпнутое оставалось нетронутым и потому чужим. Его нужно переварить, иначе это будет пища для памяти, а не для ума» [Сенека 1986, с. 209].
[8] См. его письмо XXIII, 19 «Иоанну из Чертальдо [Боккаччо], о молодом человеке, помогающем в переписывании, и о том, что нет настолько исправной книги, чтобы в ней не было ошибок». Красноречивый фрагмент этого письма Э. Гомбрих избрал в качестве эпиграфа к своей статье: «Подражатель должен заботиться о подобии, но не тождественности того, что пишет, да и подобие должно быть не таким, как изображения с изображаемым (чем больше такое подобие, тем больше хвалят живописца), а какое бывает у сына с отцом, — как бы они ни различались телесными чертами, какой-то оттенок (umbra) и то, что наши живописцы называют „атмосферой“ (aerem), всего заметней проявляющиеся в выражении лица и взгляде, создают подобие, благодаря которому при виде сына у нас в памяти сразу встает отец; если дело дойдет до измерений (ad mensuram), все окажется различным, но есть что-то неуловимое, обладающее таким свойством. Нам тоже надо стараться, чтобы при некотором подобии было много нетождественного, да и само подобие затаилось так, чтобы его можно было разве что уловить молчаливым усмотрением ума и скорее понять, что подобие есть, чем определить его словами. Можно занимать у другого ум, занимать блеск, но удерживаться от повторения слов: первое подобие скрыто, второе выпирает наружу; первое делает нас поэтами, второе обезьянами» [Петрарка 2004, с. 296–297].
[9] См. об этом в сборнике статей С.С. Аверинцева, посвященном риторике [Аверинцев 1996].
[10] «Концептуальные образы», которые Гомбрих противопоставлял «естественным знакам», присущи изобразительной деятельности детей и примитивных народов [Gombrich 1996, p. 108–111]. «Концептуальными» (обычно в кавычках) он называл те стили визуальных искусств, которые были основаны не на ви́дении окружающего мира и стремлении к правдоподобному изображению действительности с помощью «естественных знаков», а на концептуально оформленном знании об этом мире и достаточно условной передаче его сущностных, наиболее характерных черт, как например в искусстве Древнего Египта и Средних веков (в частности, определяемый им как «пиктографический», стиль росписей раннехристианских художников уже резко отличается, по его мнению, от ориентированного на видимые естественные формы классического искусства Древней Греции) [Gombrich 1996, p. 113–138].
[11] В. Н. Петров указывает на такую возможность, но никак не конкретизирует свою мысль [Петров 1977, с. 50].
[12] Как, возможно, и Ж.-Л. Давид, с 1775 года находившийся в Риме бок о бок с Козловским: знаменитый образ Герсилии, так же эффектно раскинувшей руки в его «Сабинянках» (1799, Лувр, Париж), наводит на эту мысль.
[13] Оба эскиза воспроизведены в указанном издании Русского музея [Михаил Козловский 2007, с. 72]. Еще В. Н. Петров процитировал в своей монографии в связи с «Российской баней» Козловского весьма красноречивый отрывок из урвановского «Краткого руководства…»: «Но еще чаще [чем при наблюдении расслабленных поз отдыхающих в студии натурщиков] и более достойные примечания позитуры можно видеть в мыльнях, где вдруг представится живая картина, наполненная многими разными телодвижениями, самою натурою производимыми и таковыми иногда, каковые даже искусному художнику редко на мысль прийти могут. Там же случается видеть разные свойства и чувствования»: [Урванов 1793, с. 57–58].
Интересно, что в одном из недавно опубликованных научных исследований, посвященных сложным взаимоотношениям, которые складывались в XVI веке внутри триады «нагота – искусство – приличие», его автор Елена Лаццарини пришла к выводу, что, работая над фреской «Страшный суд», Микеланджело активно изучал обнаженную натуру в римских банях [Lazzarini 2010, p. 120–121].
[14] Читаем в его журнале: «…Картина Н. Пуссена представляет Германикуса умирающего. Вот настоящая компоновка, где все фигуры находятся в натуральном положении и где зрителю представляется тишина смешана с превеликим плачем!» [Мастера искусства 1969, с. 99].
[15] Hall of the Philosophers // Capitoline Museums. Available at: http://www.museicapitolini.org/en/collezioni/percorsi_per_sale/palazzo_nuovo/sala_dei_filosofi (дата обращения 15.01.2021).
[16] Петров полагал, что в отношении Михаила Козловского влияние Рейфенштейна было ничтожным, так как журнал и рапорты молодого человека в Академию художеств выказывают полную самостоятельность его суждений. Это мнение кажется нам ошибочным.
[17] А. В. Степанов так расшифровывает триединую задачу, решенную, по мнению Альгаротти, Рафаэлем: «Первая, наиболее легкая, задача – обмануть глаз зрителя, внушив ему иллюзию подлинного присутствия всего, что изображено. Вторая, более трудная, задача – воспитать ум, как умел это делать Рафаэль в больших аллегорических и исторических композициях. Третья, труднейшая, задача – овладеть сердцем зрителя настолько, чтобы тот пережил изображенное событие так, как если бы он был его участником» [Степанов 2007, с. 205].
[18] Примечание Ивана Урванова: «Сие относится к возрасту, красоте, суровости и гнусности предметов; то есть чтобы купец во всем походил на купца; равномерно и церковный служитель, воин, приказной человек и проч. похожи были на себя» [Урванов 1793, с. 33.]
[19] «Если когда-нибудь и существовал художник, сам наделенный красотой, обладавший чувством прекрасного, осмысливший и изучивший древность, то это был Рафаэль…» [Винкельман 2000 с. 387].
[20] «Машина, или махина – сооружение, здание (обычно большое, величественное)» [Словарь русского языка 2001, с. 100].
[21] О плафоне Пьетро да Кортона «Триумф Божественного провидения» (1633–1639) в палаццо Барберини [Мастера искусства 1969, с. 99].
[22] «Илиада», песнь XVIII: Афина показывает Ахиллу битву, в которой пал его друг Патрокл.
[23] Вопрос о степени участия самого Рафаэля в работе над росписями стен в Зале Константина относится к числу трудноразрешимых. По мнению Фредерика Харта, автора инспирированной Гомбрихом капитальной монографии, посвященной Джулио Романо, сведения источников о якобы имевших место рисунках или картоне Рафаэля для «Битвы Константина» противоречивы и весьма сомнительны, так как, скорее всего, являются следствием развернувшейся едва ли не на следующий день после внезапной кончины урбинского мастера острой борьбы за выполнение престижного и выгодного папского заказа. Отнять его у молодых учеников маэстро (Джулио Романо на момент смерти Рафаэля было не более двадцати одного года) пытался с помощью Микеланджело Себастьяно дель Пьомбо, письма которого на сей счет сохранились. Харт считает, что почти вся фреска с изображением битвы была исполнена Джулио, за исключением чрезвычайно слабо написанной фигуры воина в правом нижнем углу. Его руке исследователь относит и дошедшие до нас фрагмент картона и этюды к «Битве Константина» [Hartt 1958, p. 42–51; 2, figs. 58, 61–67, 81–84].
[24] Наблюдения фон Рамдора одобрил, составляя каталог римского собрания Людовизи, известный немецкий археолог и историк античного искусства Теодор Шрайбер, но дальше мимолетного замечания дело не пошло [Schreiber 1880, S. 153]. Видимо, под влиянием устных указаний Гомбриха Харт тоже пишет о связи композиции «Битвы Константина» с саркофагом Людовизи [Hartt 1958, p. 47].
[25] Хотя в известном справочнике, родившемся в результате реализации Институтом Варбурга Лондонского университета в содружестве с Институтом изящных искусств Нью-Йоркского университета грандиозного проекта «База иконографии», идет речь о другом саркофаге с изображением битвы римлян с варварами, долгое время находившемся на вилле Дориа-Памфили в Риме, он рассматривается Андреэ в одном ряду с Малым саркофагом Людовизи, т. к. включает в себя те же визуальные «топосы».
[26] См., например, характеристику метода учителя Козловского у Алексея Бобрикова: «Антон Лосенко… едет… в Рим учиться именно „перспективе“ – первоначальному, школьному, техническому умению рисовать натурщиков в нужных позах и составлять из них аллегорические программы. Это умение он постигает полностью. Его обнаженные мужские модели (стоящие, сидящие, лежащие в довольно сложных “перспективных” ракурсах, с подчеркнутой как на экорше мускулатурой) – вполне достойные учебные штудии, до сих пор украшающие обложки методических пособий по рисунку: правильные, старательно исполненные, лишенные какой-либо стилистической специфики, абсолютно анонимные и стандартные; детали для будущего сборочного конвейера» [Бобриков 2012, с. 74]. И далее, о картине Лосенко «Владимир и Рогнеда» (1770, Гос. Русский музей, Санкт-Петербург): «Аллегорическая программа составлена из натурщиков — или даже из манекенов с механическими движениями, ничего не выражающими лицами и пустыми оловянными глазами. В качестве нарядов использован завалявшийся театральный реквизит (красные мантии с горностаем, бутафорские шлемы со страусовыми перьями). Понятно, что это программное искусство с дидактическим сюжетом — „арс комбинаторика“ (соединение „морали“ и „перспективы“) и ничего больше» [Бобриков 2012, с. 80].
[27] Обращение: поворот, зеркальная симметрия и т. п.
[28] Здесь: что-то, что является симметрично обратной копией чего-то другого.
[29] Примечание Ивана Урванова: «Оные два предписанные правила хотя наблюдать и должно, однако не всегда точно, а иногда в некоторой геометрической пропорции, или как случится и как когда приличнее: понеже в натуре не одинаким образом действия располагаются, того ради и сказано мною еще в предисловии, чтоб иметь художнику во всем вольность» [Урванов 1793, с. 52].
[30] См., например: «КОНТРАПОСТ [< ит. contrapposto (противопоставление, контраст)]. В статуарной пластике… такая постановка ног пластической фигуры, при которой одна, опорная, нога принимает на себя основную тяжесть корпуса, тогда как другая, свободная, расслаблена и слегка отставлена. Соответственно нарушена симметрия и других частей фигуры: на стороне опорной ноги бедро приподнято, в ту же сторону обычно повернута голова. При этом баланс частей тела таков, что вся фигура выглядит максимально устойчивой. В сочетании с хиазмом контрапост способствует созданию эффекта равновесия, достигаемого минимальными мускульными усилиями. Между тем само тело не выглядит при этом вялым или расслабленным; свободная нога расположена так, что, не меняя своего положения, она может стать толчковой, отчего и тело, при всем его покое, выглядит готовым немедленно прийти в движение. Контрапост, как и хиазм, появился в скульптуре в самом начале классического периода…» [Таруашвили 2004, с. 150].
[31] Саммерс цитирует известный пассаж из «Риторики» Аристотеля о противоположительном периоде речи (III, 1409b – 1410a): «Противоположительный период – такой, в котором в каждом из двух членов одна противоположность стоит рядом с другой или один и тот же член присоединяется к двум противоположностям… Такой способ изложения приятен, потому что противоположности чрезвычайно доступны пониманию, а если они стоят рядом, они [еще] понятнее, а также потому, что [этот способ изложения] походит на силлогизм, так как изобличение есть соединение противоположностей» [Аристотель 1978, с. 141–142].
[32] «Первое намерение живописца – сделать так, чтобы плоская поверхность показывала тело рельефным и отделяющимся от этой плоскости, и тот, кто в этом искусстве наиболее превосходит других, заслуживает наибольшей похвалы; такое достижение — или венец этой науки — происходит от теней и светов, или, другими словами, от светлого и темного. Итак, тот, кто избегает теней, избегает славы искусства у благородных умов и приобретает ее у невежественной черни, которая не захочет от живописи ничего другого, кроме красоты красок, забывая вовсе красоту и чудесность показывать рельефным плоский предмет» [Леонардо да Винчи 2009, с. 271].
[33] Урванов неоднократно уподобляет исторического живописца оратору [Урванов 1793, с. 5, 9]. Еще: «…Художническое изобретение весьма сходствует с изобретением риторическим: ибо художнику должно сперва приискать лучшие предметы для намерения своего, а потом их расположить и украсить приятными постановлениями» (курсив мой. – А.С.) [Там же, с. 89].
[34] Древний мраморный обломок был отреставрирован французским скульптором Пьером-Этьеном Монно (1658–1733) как раненный воин и носит условное название «Гладиатор Монно» (ил. 6.II). Теперь он украшает Галерею Нового дворца Капитолийских музеев, т. е. размещен отдельно от знаменитого «Умирающего галла», в пандан которому статуя предназначалась ваятелем. Интересно, что перебравшийся в Италию француз как художник мыслил в данном случае подобно Джулио Романо сразу в двух измерениях, воссоздав изображение (sculpture) именно погибающего на наших глазах воина как пару прославленному античному образу (image): см. выше примеч. 6.
Известно, что Козловский копировал в Риме «Умирающего галла» [Петров 1977, с. 46–47, 51]. Если внимательно присмотреться к заднему плану «Российской бани», то в обращенной к нам спиной четвертой фигуре справа можно опознать соответствующий ракурс этой античной статуи, но в зеркальном отображении (ил. 2.II), то есть и здесь имеет место не точное воспроизведение, а вариация на тему, хотя и вполне узнаваемая.
[35] Другое его название – Зал Фаэтона.
[36] Рядом с храмом у подножия Капитолийского холма находился и отчий дом Джулио Романо, в котором он жил во время работы над фресками в Зале Константина [Vogel 1920, S. 62], так что это же изображение падающего Фаэтона могло послужить образцом и для ученика Рафаэля [ил. 6.III].
[37] «Так легко движение формы в пространстве и энергии в материи, так беспрепятственно выражение чувства, так властно композиционное равновесие, что даже в моменты величайшего живописного и повествовательного волнения Рафаэль способен сохранять почти сверхчеловеческое спокойствие. Выразительная интенсивность Рафаэля проистекает главным образом из ее чистоты, почти не апеллирующей к эмоциям, но содержащей столь же возвышенное духовное послание, как арии сопрано или инструментальные кантилены Баха. Такие высоты были так же мало доступны Джулио, как и другим современникам Рафаэля. Величественные гармонии формы и пространства, которые, возможно, даже обретали свои очертания на глазах юноши Джулио в „Станца делла Сеньятура“, оставляют в нем [= в его работах] мало следов» [Hartt 1958, p. 14].
[38] Выше (см. примеч. 17) уже говорилось об успешном решении Рафаэлем задачи заставить зрителя принять близко к сердцу изображенное событие. Как верно отметил А. В. Степанов, такое понимание живописи, объединяющее Рафаэля и его современников, например, с жившим в XVIII столетии графом Альгаротти (или художником Иваном Урвановым, добавим мы), говорит о присущем им всем риторическом типе мышления, который в XIX веке столкнулся с агрессивным отрицанием своего права на существование: «Риторика, послужившая источником теорий античного и ренессансного искусства, есть наука о наилучших художественных приемах воздействия на публику. Старые мастера не находили ничего предосудительного в таком инструментальном подходе к делу. Но… XIX век создал совершенно новый образ Рафаэля. Для большинства авторов, писавших о нем в XIX столетии, ни обман зрения, ни воспитание умов не могли быть оправданием искусства. Главное же требование Альгаротти – овладение сердцем зрителя – они заменили требованиями искренности художника и правдивости его произведений. “Риторическое” было отождествлено с ложью. На техническое мастерство стали смотреть как на средство обмана, если оно препятствовало правде» [Степанов 2007, с. 210–211].
[39] Ф. Харт проводит параллель между мертвыми телами у Джулио Романо и Теодора Жерико [Hartt 1958, p. 48].
[40] См. в прим. 38 об изменении отношения к Рафаэлю и риторике в живописи вообще в XIX веке.
[41] В поисках параллелей в изобразительном искусстве Чинквеченто Ричард Этлин вспоминает в связке друг с другом фреску Джулио Романо «Падение Фаэтона» и рисунки Микеланджело для Томмазо Кавальери на эту тему.
Авторы статьи
Информация об авторе
Александр Г. Сечин, кандидат искусствоведения, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48; sechin_a@mail.ru
Author Info
Alexander G. Sechin, Cand. of Sci. (Art history), Associate Prof., Herzen State Pedagogical University of Russia, St Petersburg, Russia; 48 Moika Embankment, St Petersburg, 191186, Russia; sechin_a@mail.ru