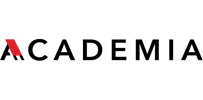Италия в жизни и творчестве выдающихся мастеров исторической живописи – В.И. Сурикова и Яна Матейко
Лейла С. Хасьянова
Российская Академия художеств, Москва, Россия,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Варшава, Польша, leilakh.art@gmail.com
Аннотация
«Матейко имел великую национальную душу и умел горячо и кстати выражать любовь к своему народу своим творчеством», – это высказывание И.Е. Репина по праву можно отнести и к В.И. Сурикову. К сожалению, исследователи его творчества сталкиваются с тем, что замкнутый образ жизни художника во многом способствовал отсутствию объемного эпистолярного и мемуарного наследия. Сведения же о польском художнике Яне Матейко, который вел такой же затворнический образ жизни, более обширны. В статье автор останавливается на роли Италии в жизни и творчестве этих двух выдающихся исторических живописцев, ярких представителей славянской культуры, которых, кроме приверженности исторической живописи, объединяло определенное сходство характеров, жизненных установок и творческой позиции.
Ключевые слова:
историческая живопись, реализм, композиция, академическая школа, Италия
Для цитирования:
Хасьянова Л.С. Италия в жизни и творчестве выдающихся мастеров исторической живописи – В.И. Сурикова и Яна Матейко // Academia. 2021. № 3. С. 234–243. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-234-243
Italy in the life and work of Vassily Surikov and Jan Matejko, outstanding historical painters
Leila S. Khasianova
Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa, Polska, leilakh.art@gmail.com
Abstract.
Ilya Repin wrote, “Matejko had a great national soul, he could as a painter express his love to his compatriots boldly and just to the point”. This statement can be attached to Surikov’s creative activity as well. Unfortunately, the researchers of Surikov’s works have to realize that painter’s secluded lifestyle obviously led to an insufficient number of letters and memoirs. The information on the Polish artist Jan Matejko is more extensive though he also was a recluse in his life. The author of the article pays special attention to Italy, and its role in private and artistic life of Surikov and Matejko. Both represented Slavonic culture, both were adherents to historical painting, and, moreover, had much in common as for their tempers, existential and creative principles.
Keywords:
history in art, Realism, composition, academic school, Italy
For citation:
Khasianova, L.S. (2021), “Italy in the life and work of Vassily Surikov and Jan Matejko, outstanding historical painters”, Academia, 2021, no 3, pp. 234–243. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-234-243
Введение
Выдающийся русский скульптор Н.А. Рамазанов называл Италию «обетованной землей», привлекавшей деятелей искусства со всех концов света, местом, где «художники чувствовали себя, как дома» [Tarnowski 1897, p. 2]. Они приезжали туда, как им казалось, на время, но получалось так, что многие из них оставались там навсегда. В основном это были молодые художники-пенсионеры, выпускники различных европейских Академий художеств, в чьем творчестве Италия оставила свой неизгладимый след. Стремились в эту страну и уже достигшие славы и признания у себя на родине мастера, например, такие знаменитые исторические живописцы, как Василий Иванович Суриков и Ян Матейко, которых, кроме исторической живописи, объединяло сходство характеров и жизненных установок. Высказывание И.Е. Репина о польском художнике, что «Матейко имел великую национальную душу и умел горячо и кстати выражать любовь к своему народу своим творчеством» [Репин 1961, с. 386], можно с полным правом отнести и к Сурикову. Оба были также неразрывно связаны с городами, где жили и творили. Василий Иванович, переехав после окончания Академии художеств в Москву, любил с наступлением сумерек бродить по городу, особенно гулять рядом с Кремлем, где «памятники все сами видели: и царей в одеждах и царевен – живые свидетели...» [Гор, Петров 1955, с. 69]. Он считал, что «приехавши в Москву, попал в центр русской народной жизни, сразу стал на свой путь», часто «ходил в Архангельский собор, где цари покоятся до Петра Великого. Тут и Дмитрий Иванович Донской и Калита, Семен Гордый, Алексей Михайлович, Михаил Федорович; Иван Васильевич Грозный лежит отдельно в приделе, похожем на алтарь» [Гор, Петров 1955, с. 47–48]. Москва стала «огнивом» для его творчества, где, как он говаривал: «…стены я допрашивал, а не книги» [Гор, Петров 1955, с. 182].
На увлечение Матейко родной историей повлияла атмосфера средневекового Кракова, в котором он родился. Города, который, как и Москва, был сосредоточением памятников старины, с величественным Вавелем[1] и кафедральным собором с королевскими склепами. По вечерам, в свободное от работы и вечерних лекций время Ян также совершал прогулки по сердцу родного города – Главному рынку, где наблюдал за жителями родного города и искал образы для своих будущих картин. За его плечами была Краковская школа изящных искусств, и, хотя молодой художник был необычайно трудолюбив и считался одним из лучших, заветной правительственной стипендии на продолжение учебы за границей ему пришлось добиваться очень долго. У его учителя и директора художественной школы В. Статтлера были свои дети, которые учились вместе с Матейко, и, как это часто бывает, похвалы учителей и финансовая поддержка доставались в основном им.
Для конкурса на большую золотую медаль Суриков написал композицию «Апостол Павел объясняет догматы веры царю Агриппе, его сестре Веронике и проконсулу Фесту». Художник вспоминал: «Медаль-то мне присудили, а денег не дали. Там деньги разграбили, а потом казначея Исеева судили и в Сибирь сослали. А для того, чтобы меня за границу послать, как полагалось, денег и не хватило. И слава Богу! Ведь у меня какая мысль была: Клеопатру Египетскую написать. Ведь что бы со мной было!» [Суриков 1977, с. 182]. В Академии художеств в Петербурге, которую Суриков закончил со званием художника первой степени, у него было много учителей, но с особой благодарностью и теплотой он вспоминал только о П.П. Чистякове, к которому попал не сразу. Композицией в первые годы обучения в основном занимался самостоятельно и делал успехи, за что получил прозвище «композитор»: в 1875 году его композицию «Пир Валтасара» (1874, ГРМ) опубликовал журнал «Всемирная иллюстрация», а в следующем году там же был опубликован эскиз «Борьба добрых духов со злыми» (1875, ГРМ). Об успехах ученика Краковской школы изящных искусств Матейко в 1858 году в краковской газете «Czas» вышла статья, посвященная его композиции «Карл Густав с Шимоном Старовольским перед гробницей Локетка в соборе на Вавеле». В отличие от Сурикова, добившись правительственной стипендии, он пытался продолжить обучение в Академиях художеств Мюнхена и Вены, в которых проучился недолго, не найдя там для себя ничего нового.
Объединяла художников и любовь к классической музыке. Польского мастера она окружала с детства, его отец был музыкантом и обучал будущего художника игре на фортепьяно. Суриков, описывая Нотр-Дам-де-Пари, сравнивал его с органом: «Странно, все эти связки тонких колонок напоминают мне его орган, который занимает весь средний наос. Никогда в жизни я не слышал такого чарующего органа. Я нарочно остался на праздники в Париже, чтобы слышать его» [Суриков 1977, с. 61].

В повседневной жизни этим двум художникам, занятым постоянно работой, было не до светских условностей. Известна история, когда Суриков получил приглашение князя А.А. Щербатова, в котором было написано, что на приеме все мужчины должны быть обязательно во фраках. Его возмущению не было предела: «„Им мало Сурикова! Им подавай его во фраке“» [Суриков 1977, с. 286]. Закончилось все тем, что художник «вложил в коробку свой фрак и, приложив визитную карточку, отправил все это вместо себя князю Щербатову» [Суриков 1977, с. 286]. Похожая история произошла с Матейко в день торжественного открытия драматического театра в Кракове[2], когда художник вместе с секретарем М. Гожковским пришел в театр не во фраке, а в сюртуке. Гожковский вспоминал: «...Дома, смеясь, он [Матейко] сказал мне: „и что? – как нам обоим удалось быть без фраков? Я встретил там в одной из лож министра Ю. Дунаевского[3], который тоже был в сюртуке; и сказал ему, что очень рад, что не одинок, и его превосходительство тоже в сюртуке. Министр же мне на это: Так и должно быть! – по этикету до полудня никто из воспитанных людей не надевает фрак“» [Gorzkowski 1898, p. 564]. Современники отмечали аскетизм обоих художников в повседневной жизни, их непритязательность в еде, одежде, а также поразительную привязанность к своей семье – жене и детям.
Основным, что роднило этих художников в творчестве, было их четкое понимание задач исторической живописи, начиная с того, какие темы должны интересовать живописца, каким должно быть их композиционное решение, и заканчивая тем, что составляет основу исторической картины, ее отличие от иллюстрации к произошедшему событию. Обычного иллюстрирования художники категорически не принимали и не допускали в своем творчестве. «Вот французы с Лораном[4] носятся, а он как исторический художник слаб. Нет в его картинах эпохи. Это иллюстрации (курсив мой. – Л.Х.) на исторические темы» [Суриков 1977, c. 244], – отзывался о творчестве французского живописца Суриков. Он был убежден, что «в исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так <…> Суть-то исторической картины – угадывание. Есть только сам дух времени соблюден – в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку – противно даже (курсив мой. – Л. Х.)» [Гор, Петров 1955, c. 86]. Матейко тоже, хотя и высоко ценил творчество очень талантливого художника Артура Гротгера[5], с легкостью создававшего эскизы баталий, быстро и изящно рисовавшего в манере французских хромолитографий небольшие штудии на темы польской истории, однако, несмотря на все эти перечисленные достоинства, признавался, что плодовитое творчество товарища его всегда «раздражало». Ему, посвятившему все свое творчество «скорбной и славной истории родины», Гротгер был чужд своей идейной легковесностью и оставался всего лишь иллюстратором (курсив мой. – Л.Х.) [Pawłowicz-Jabłoński, Treter 1912, p. 19] польской истории. Матейко разработал свой творческий метод: изображая историческое событие, художник был убежден, что оно «не падает с неба сложившимся, а готовится коллективными устремлениями и усилиями разных людей, которые либо были, либо отсутствовали в определенном моменте и определенном месте, где этот факт, наконец, свершился. Люди же относились к совокупности факта, как силы, которые его привели в действие, находясь при этом на расстоянии от места и даже времени. Картина, которая должна представить всю совокупность этого факта, обязана все эти силы в своих рамках собрать и показать, только тогда она будет исторической, будет по-настоящему самостоятельно созданной – не рабской иллюстрацией к летописи (курсив мой – Л. Х.), а сосредоточением и осознанием того, что, относясь к одному событию, рассеяно и разбросано в хрониках. Только тогда художник будет художественным летописцем и в некоторой степени судьей, как самого исторического факта, так и всех действующих в нем сил и элементов» [Tarnowski 1897, p. 472–473].

Оба художника в историческом прошлом своей родины стремились найти примеры, которые будили бы в их современниках патриотические чувства, укрепляли национальное самосознание и любовь к родной земле. Это было особенно важно для времени, когда интерес к историческому жанру был характерен для живописи почти всех восточноевропейских народов, которые вели борьбу за свою государственность и национальную независимость. Тогда появилась целая плеяда выдающихся исторических живописцев, в картинах которых ставились и решались самые насущные и животрепещущие проблемы не столько прошлого, сколько настоящего и будущего их родины. В выборе тем они были сродни Матейко, который «в годину забитости, угнетения порабощенной своей нации <…> развернул перед ней великолепную картину былого ее могущества и величия» [Репин 1961, c. 385]. О «необыкновенной, глубокой любви к своей родине» Сурикова писали его современники и коллеги [Суриков 1977, c. 265].
Об исторической актуальности и политической значимости полотен художников-патриотов свидетельствует тот факт, что в трагические годы оккупации Польши только за раскрытие места, где была спрятана «Битва под Грюнвальдом» Матейко (ил. 1), фашисты обещали в награду сперва два, а потом 10 миллионов марок, личную безопасность и заграничный паспорт с открытой визой. Спустя четверть века в точности повторились события Первой мировой войны, когда немцы также хотели уничтожить это монументальное полотно. Грюнвальдская битва (1410) стала событием мирового значения, которое олицетворяло собой не только схватку между двумя народами, но и борьбу германо-романского Запада со славянским Востоком. В этой битве по одну сторону стоял мощный Тевтонский орден, рыцари Германии, Англии, Франции, Италии, а по другую – весь балто-славянский мир: поляки, русские, чехи, литовцы, белорусы и др. Художник-патриот в своем произведении воспел их героическую борьбу за свою независимость. Ведь по историческому значению для славянского мира это событие можно сопоставить с Куликовской битвой. Однако это исторический аспект произведения, а каково его значение для настоящего и будущего?
Картина была написана художником в период расцвета Пруссии и политических успехов Бисмарка, которые привели к объединению немецкой республики под гегемонией Пруссии, способствовали усилению ее мощи и последовавшей насильственной волной германизации и дискриминации поляков в прусской оккупации. В период, когда после поражения и капитуляции французской армии во Франко-прусской войне 1870 года, все поверили в мощь и непобедимость немецкого оружия, появление картины Матейко стало важным историческим событием: художник-провидец, предвосхищая исторические события далекого будущего, изобразил на своем полотне разгром «триумфаторов». Таким образом, картина стала вызовом художника, брошенным прошлому, настоящему и, как показало время, будущему военной мощи Пруссии.
Среди произведений Сурикова и Матейко есть праздничные, жизнеутверждающие картины (их немного), которые привлекали зрителя не только своим радостным колоритом, но и сюжетом. Среди полотен польского мастера можно назвать такие картины, как «Колокол Cигизмунда», «Стефан Баторий под Псковом» и «Присяга Пруссии» (ил. 2), которые отличаются от других полотен мастера и относятся к его самым радостным, светлым и красочным произведениям. В творческом наследии Сурикова своей жизнерадостностью выделяется написанная в 1884 году «Сцена из Римского карнавала» (ил. 3) и, без сомнения, за ней следует «Взятие снежного городка» (ил. 4). Картины «Присяга Пруссии» (1882) Матейко и «Сцена из Римского карнавала» Сурикова были написаны художниками после их посещения Италии, которая произвела на них неизгладимое впечатление.

Биографии обоих художников не богаты внешними событиями, богато их творческое наследие, поэтому так интересно определить, кто или что повлияло на создание этих произведений. К сожалению, исследователи жизни и творчества Сурикова сталкиваются с тем, что замкнутый образ жизни художника во многом способствовал отсутствию объемного эпистолярного и мемуарного наследия. Сведения, оставленные современниками, о жизни польского художника Яна Матейко, который вел такой же затворнический образ жизни, более обширны[6]. В эпистолярном наследии Сурикова исключительный интерес представляют его письма, написанные во время немногочисленных поездок за границу. Они поражают глубиной суждения автора об искусстве, точным профессиональным разбором каждого понравившегося или не понравившегося ему произведения, живостью повествования. Если письма Сурикова к П.М. Третьякову по содержанию, скорее, официально-информативные, то в переписке с Чистяковым Василий Иванович ведет доверительное и обстоятельное обсуждение всего увиденного с художником и учителем, которого он уважал и ценил. Из этих писем становится понятным, насколько велико было влияние, оказанное на художника Венецией и венецианскими живописцами, поэтому не случайно современники признавали, что в этюдах «Сурикова, как ни у кого, передано все живописное очарование Венеции» [Суриков 1977, c. 238]. Этим восхищением были проникнуты не только письма. Как вспоминал художник В.К. Бялыницкий-Бируля[7]: «Суриков захватил внимание всех присутствующих своими рассказами о поездке за границу; особенно взволнованно говорил он о художниках Тинторетто, Веронезе, Тициане. Меня поразила красочность его рассказов...» [Суриков 1977, c. 265]. Самыми любимыми картинами в Лувре у него были «Брак в Кане Галилейской» и «Христос в Эммаусе» Веронезе, у Тициана – «Положение во гроб» и портреты, в Прадо – зал портретов Тинторетто, куда он входил «с благоговением и каждый портрет рассматривал с любовью и восхищением» [Суриков 1977, c. 273].
В свое европейское путешествие Суриков выехал с семьей 24 сентября 1883 года. Спустя восемь лет после отказа от пенсионерской поездки за границу он почувствовал необходимость увидеть шедевры европейской живописи. Художник решил прервать работу и посетить Берлин, Дрезден, Кёльн, Париж, Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь, Венецию и Вену. Как и Матейко, приехав в Париж, он был оглушен шумом большого европейского города, он практически ничего не писал, предпочитая посещать музеи. В октябре из Парижа Василий Иванович только упомянул в письме Н.С. Матвееву[8] о своем открытии творчества Веронезе в Дрезденском собрании. С П.М. Третьяковым уже делился: «Веронеза „Брак в Кане“ меня менее поразил, нежели „Поклонение волхвов“ его же в Дрездене. То меня с ума свело (курсив автора письма. – Л. Х.)» [Суриков 1977, c. 57], а Чистякову объяснял, с чем это связано, давая тщательный профессиональный разбор увиденного: «„Брак в Кане“ произвел на меня не то впечатление, какое я ожидал. Мне она показалась коричневою, вместо ожидаемого мною серебристого тона, столь свойственного Веронезу. Дальний план, левые колонны и группа в начале с левой стороны, невеста в белом лифе очень хороши по тону; но далее картине вредят часто повторяющиеся коричневые, красные и зеленые цвета. От этого тон картины тяжел. Вся прелесть этой картины заключается в перспективе. Хороша фигура самого Веронеза в белом плаще. Какое у него жесткое, черствое выражение в лице. Он так себя в картине усадил, в центре, что поневоле останавливает на себе внимание. Христос в этом пире никакой роли не играет. Точно будто Веронез сам для себя этот пир устроил... и нос у него немного красноват; должно быть, порядком таки подпил за компанию. Видно по всему, что человек был с недюжинным самолюбием. Тициана заставил в унизительной позе трудиться над громадной виолончелью. Другая его картина гораздо удачнее по тонам – это „Христос в Эммаусе“. Здесь мне особенно понравилась женщина с ребенком (на левой стороне). Хорош Петр и другой, с воловьей шеей! Только странно они оба руки растопырили параллельно. Картина, если помните, подписана „Паоло Веронезе“ краской, похожей на золото. Я не могу разобрать, золото это или краска» [Суриков 1977, c. 61–62].

От внимательного взгляда художника не ускользнуло и то, что в произведениях Веронезе, Тициана нет необходимого «душевного выражения», так важного для исторических живописцев второй половины XIX века, из этого Василий Иванович сделал вывод, что «заботясь об одной внешности, красоте, они сильно напоминают греческую школу диалектиков до Демосфена. Эта школа также мало заботилась о мысли, а только блеском речи поражала слушателей. Итальянское искусство – искусство чисто ораторское, если можно так выразиться про живопись» (курсив мой. – Л.Х.) [Суриков 1977, c. 62]. Перед картинами венецианцев он провел немало часов, изучая их цветовую палитру, технику, характеры изображенных персонажей, это становится понятным по тому, как он сопоставлял и точно характеризовал картины, находящиеся в музеях разных стран. «Странность <...> бывает у Тициана: ищет, ищет до тонкого разнообразия цвета, а то возьмет да одной краской и замажет, как здесь, в апостоле, так и в Берлине „Христос и динарий“. Предлагающий динарий тоже, как и здесь, рыжей краской закрашен. Говорил мне кто-то дома, что Христос (берлинский) чудно нарисован, а между тем он сухими линиями рисован... но его <...> картину, видно, немцы прославили: совсем в их вкусе» [Суриков 1977, c. 62].
Незабываемое впечатление произвело на него «Поклонение волхвов» Веронезе: «Боже мой, какая невероятная сила, нечеловеческая мощь могла создать эту картину! Ведь это живая натура, задвинутая в раму... Не знаю, есть ли на свете его еще такая вещь. Я пробыл два дня в Дрездене и все не мог оторваться от нее. Наконец, нужно было уехать, и я, зажмурив глаза, чтоб ничего больше по стенам не видеть, чтобы одну ее только упомнить, вышел поскорее на улицу» [Суриков 1977, c. 63]. О силе воздействия, которое оказал на него художественный гений Веронезе, свидетельствует то, что спустя два дня после отъезда из Венеции, уже из Вены Василий Иванович написал длинное, очень обстоятельное письмо Чистякову, в котором вновь вспомнил и проанализировал все увиденное им в Венеции. Не мог скрыть он своего разочарования Веронезе из Палаццо дожей, он не произвел на него того впечатления, которое он так ждал. Однако, критикуя его плафоны, он оправдывал это тем, что художник работал на холстах, а не на самом потолке, из-за чего «как-то сильно затушевал их». Василий Иванович писал об этом с большой досадой, переживая, что тот не рассчитал и слишком переработал их. Такое сильное разочарование было связано еще и с тем, что художник жаждал увидеть в Венеции произведения, которые превзошли бы по силе мастерства дрезденское «Поклонение волхвов» Веронезе, ставшего для него «меркою для всех его работ». В Венеции он ждал триумфа Веронезе, новых художественных потрясений, а этого не произошло, но в этом городе он открыл для себя Тинторетто: «Кто меня маслом по сердцу обдал, то это Тинторет. Говоря откровенно, смех разбирает, как он страшно неуклюж, но как страшно мощно справляется с портретами своих краснобархатных дожей, что конца не было моему восторгу». Тинторетто стал для него примером художественного обобщения, мастером, который «совсем не гнался за отделкой, как Тициан, а только схватывал конструкцию лиц просто одними линиями в палец толщиной; волосы, как у византийцев, черточками» [Суриков 1977, c. 63]. Отмечал Суриков и техничность кисти венецианца: «Ах, какие у него в Венеции есть цвета его дожеских ряс, с какой силой вспаханных и пробороненных кистью, что, пожалуй, по мощи выше „Поклонения волхвов“ Веронеза. Простяк художник был. После его картин нет мочи терпеть живописное разложение» (курсив мой. – Л. Х.) [Суриков 1977, c. 63]. Отмечая, что плафон Тинторетто в Палаццо дожей в сравнении с его портретами выглядит слабее, Суриков не критиковал, а старался оправдать автора: «Просто, должно быть, не его это было дело». Та же деликатность в оценках прослеживается и в его анализе картины Тициана «Вознесение Богоматери», «склизкость» ее техники он объясняет тем, что она написана на доске, а далее идет детальное описание того нового, что он нашел для себя в этом произведении. Суриков описывает «Тайную вечерю» Веронезе, тона которой «натуральнее парижской “Канны”, но фигуры плоски даже, отойдя далеко от картины, и еще мне не нравится то, что киноварь везде проглядывает. В этой картине есть чудная по лепке голова стоящего на первом плане посреди картины толстяка. Сам Веронез себя представил, как и в “Кане”, только стоит и руками размахивает. Я заметил, что ни одной картины у него нет без своего портрета. Зачем он так себя любил? (курсив мой. – Л. Х.)». Вновь Суриков анализирует живописную технику венецианского мастера, его цветовую гамму, походящую на цвет Адриатического моря, византийские мозаики собора Сан-Марко, и вообще мозаики, с их четким разделением на свет, полутон и тень. Сурикову пришлась по душе цветовая холодноватая гамма живописи Веронезе, в то время как «Тициан иногда страшно желтит, зной напускает в картины, как, например, „Земная и небесная любовь“ в палаццо Боргезе в Риме», «гораздо вернее по тону его „Флора“ в Уффици. Там живое тело, грудь под белой со складочкой сорочкой» [Суриков 1977, c. 65]. Перечисляя эти шедевры из европейских собраний, русский художник подытоживает в конце, что «эрмитажная Венера с зеркалом чуть ли не лучшее произведение Тициана. Вообще к нам в Эрмитаж самые лучшие образчики старых мастеров попали» (курсив мой. – Л.Х.). «Разговор у меня вертится все на этих мастерах: Веронезе, Тициане, Тинторетто, потому что до Веласкеза эти старики ближе всех других понимали натуру, ее широту… (курсив мой. – Л.Х.)». [Суриков 1977, c. 65–67].
Если Суриков ездил за границу в 1883–1884 годах, то Матейко пятью годами раньше. Его поездка началась в ноябре 1878 года и продолжалась до января следующего года; вместе с женой он посетил Триест, Падую, Болонью, Флоренцию, Рим, Неаполь, Милан и Венецию. Как и Суриков, он был восхищен великими венецианцами и их живописью, влияние которой, с ее роскошью и пышностью одеяний, богатством художественных приемов, без сомнения, отразилось на колористической гамме картины Матейко «Присяга Пруссии». К работе над этим масштабным полотном он приступил 4 февраля 1880 года. Это произведение можно назвать наиболее итальянским, а точнее венецианским произведением мастера по характерному доминированию в нем разнообразных оттенков красного, которые можно было сравнить только с колоритом и декоративностью Веронезе и Тициана – художников, которые во время этой поездки также произвели на Матейко самое большое впечатление. Творчество великих венецианцев повлияло и на композиционное построение этого монументального произведения, отличительной чертой которого стала экспрессия и пафос происходящего действа, участники которого создали галерею тщательно продуманных и точно схваченных образов. В картине нельзя найти лиц с одинаковым выражением и схожей психологической характеристикой, в ней нет того «однообразия» [Суриков 1977, c. 65–67], который ставил в упрек венецианцам Суриков.

Холст, масло. Не позднее 1888. Музей-усадьба В.И. Сурикова.
Матейко, который преклонялся перед великими венецианцами и выделял среди них, как и В.И. Суриков, Веронезе, представил торжество победы Ягеллонов над орденом крестоносцев, ослепляющее своим великолепием и роскошью королевского двора. «Присяга Пруссии» была пожертвована художником польскому народу. Он мечтал, чтобы она была повешена в Королевском замке на Вавеле[9] после завершения его реставрации[10]. Картина стала апогеем его творчества, венцом всего, что было им создано. После в его творчестве наступил этап «рассредоточения внимания и сил, исчезновения экспрессии, обращение к декоративному искусству, время превалирования интересов общественных, политических, религиозных, научных и реставрационных <...>. Вдохновленная великими венецианцами и написанная в последний относительно счастливый период жизни художника картина, стала прощальным аккордом, гимном любимой и почитаемой художником эпохе Возрождения. Колорит Матейко стал терять свой прежний блеск и силу, контуры рисунка стали манерными, композиции – хаотичными, изменился его творческий метод: «Я пишу и компоную не так, как понимаю правила художественного совершенства картины. Выявление образа, выразительность компоновки важнее этого совершенства и к этой выразительности я стремлюсь больше, чем к чистоте линий или красоте композиции». Идея полностью стала главенствовать в его творчестве над формой, а в личной жизни художника наступила полоса разочарований и потерь, в год написания «Присяги Пруссии» его любимая жена была признана психически больной и помещена в больницу.
Суриков, как и Матейко, тоже пережил большую личную трагедию – смерть своей горячо любимой жены (ил. 5). «Жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить себе не могу» [Гор, Петров 1955, c. 152], – писал Суриков брату 20 апреля 1888 года. Похоронив жену, он бросил все и «уехал в Сибирь. Встряхнулся. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел. У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. Написал я тогда бытовую картину – „Городок берут“» [Суриков 1977, c. 188].
У Сурикова, как и у польского мастера, было немного произведений, связанных с темой человеческой радости и счастья: картины и этюды, написанные в счастливое время поездки с семьей за границу, и «Взятие снежного городка». Оптимизм и красота этой картины, написанной в горе и отчаянии на родине художника в любимом Красноярске, помогли ему возродиться вновь к жизни и творчеству и написать такие выдающиеся исторические полотна, как: «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря», а также огромное количество портретов, пейзажей, этюдов и зарисовок.
Заключение
Совет Академии художеств в Петербурге, понимая необходимость и большую пользу пребывания художников в Италии, всегда стремился создать в Риме свою Академию. Это всегда вызывало активное противодействие передвижников и В.В. Стасова, который был уверен, что талантливым художникам «вредно поехать за границу <...> вредно закрывать глаза на современность и жить только преданиями» [Стасов 1894, c. 866], что решение создать Русскую Академию художеств в Риме – «это грубая ошибка, напрасно растраченные и ложно направленные силы; а народные деньги, сложенные из трудовых копеек, добытых потом и слезами, не должны идти на то, чтоб помогать такой безумной порче и трате лучших способностей» [Стасов 1894, c. 866]. Отчасти он был прав: русские и польские художники, для которых существовало два художественных центра в Европе – Рим и Петербург, всегда стремились в Италию. В отличие от Матейко и Сурикова, они приезжали туда молодыми людьми и, испытав восторг от красоты итальянской природы и дивных произведений искусства, утрачивали там свои национальные черты и становились знаменитыми на весь мир художниками, творившими под итальянским небом в окружении античности, такими, как Г. Семирадский, А. Станкевич, С. Бакалович, В. Котарбинский и многие другие.
Литература
1. Гор, Петров 1955 – Гор Г., Петров В. В.И. Суриков. 1848–1916. М: Молодая гвардия, 1955. 224 c.
2. Репин 1961 – Репин И.Е. Далекое близкое. М.: Изд. Академии художеств СССР, 1961. 510 с.
3.Стасов 1847–1886 – Стасов В.В. Собр. соч. В.В. Стасова. В 3-х т. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1894. Т. 1: 1847–1886. 882 с.
4. Суриков 1977 – Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1977. 381 с.
5. Gorzkowski 1898 – Gorzkowski M. Jan Matejko, epoka lat dalszych do końca życia artysty, z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu. Kraków: Druk. Związkowa, 1898. 607 s.
6. Tarnowski 1897 – Tarnowski S. Matejko. Kraków: Księg. Spółki Wydaw. Polskiej, 1897. 562 s.
7. Pawłowicz-Jabłoński 1912 – Pawłowicz-Jabłoński I., Treter M. Wspomnienia o Janie Matejce. Lwów: Nakładem H. Altenberga, 1912. 61 s.
References
- Gor G., Petrov V. (1955), V.I. Surikov [V.I. Surikov], 1848–1916, Molodaya Gvardiya, Moscow, Russia.
- Repin, I.E. (1961), Dalekoe blizkoe [Far and Near], Russian Arts Academy, Moscow, Russia.
- Stasov, V.V. (1894), Sobranie sochineniy [Collected works of V.V. Stasov], Stasiulevich Publishers, St Petersburg, Russia.
- Surikov, V.I. (1977), Pisma. Vospominaniya o khudozhnike [Vassily Ivanovich Surikov. Letters. Memories about the artist], Iskusstvo, Leningrad, Russia.
- Gorzkowski, M. (1898), Jan Matejko, epoka lat dalszych do końca życia artysty, z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Druk. Związkowa, Kraków.
- Tarnowski, S. (1897), Matejko, Księg. Spółki Wydaw. Polskiej, Kraków.
- Pawłowicz-Jabłoński, I., Treter, M. (1912), Wspomnienia o Janie Matejce, Nakładem H. Altenberga, Lwów.
[1] Вавель – холм в Кракове, на левом берегу Вислы, на котором расположен Королевский замок и кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава.
[2] Театр имени Юлиуша Словацкого (с 1909 г.).
[3]Дунаевский Юлиан Риттер фон (1822–-1907) – австро-венгерский государственный деятель, министр финансов Цислейтании в 1880–1891 гг., брат краковского князя-епископа Альбина Дунаевского.
[4] Лоран Жан-Поль (1838–1921) – французский художник, писал картины на историческую тематику, скульптор, график и иллюстратор,
[5] Гротгер Артур (1837–1867) – польский художник, график, иллюстратор
[6] В первую очередь, благодаря его секретарю Марьяну Гожковскому, который вел дневник, ежедневно записывая в него все события, происходившие с художником, воспоминаниям Станиславы Серафинской, племянницы его жены Теодоры Гебултовской, и мемуарам художника Изидора Яблонского-Павловича.
[7] Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872–1957) – белорусский, русский и советский живописец-пейзажист, народный художник БССР и РСФСР.
[8] Матвеев Николай Сергеевич (1855–1939) – русский живописец, иллюстратор, художественный критик.
[9] Многовековой резиденция польских королей и символ польской государственности.
[10] Желание художника не осуществилось: картина находится в собрании Сукенниц, на фоне которых происходит действие «Присяги Пруссии».
Авторы статьи
Информация об авторе
Лейла С. Хасьянова, кандидат исторических наук, профессор, член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ, Москва, Россия; Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ul. Foksal 11-6, 00-320 Warszawa, Polska; leilakh.art@gmail.com.
Author Info
Leila S. Khasianova, Cand. of Sci. (History), professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Arts (RAA), Moscow, Russia; bl. 21, Prechistenka st, Moscow, 119034, Russia; Honored Artist of the Russian Federation, Polish Institute of World Art Studies, Foksal str. 11-6, 00-320 Warsaw Poland; leilakh.art@gmail.com.