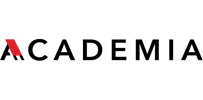Караваджо – нарушитель спокойствия и революционер
Александр К. Якимович
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, yakimovitch@mail.ru
Аннотация:
Открывающий историю искусства новой постренессансной Европы итальянский мастер Караваджо (1571–1610) должен, наконец, быть поставлен в ряд нарушителей спокойствия – эстетических и социокультурных мятежников Нового времени. Для обоснования этого предположения, сформулированного, прежде всего отечественными искусствоведами Е.И. Ротенбергом и М.И. Свидерской, достаточно проследить этапы развития искусства мастера – от ранней стадии «скверных анекдотов» и сцен из жизни городского дна до новаторских вызывающих произведений на библейские темы.
Ключевые слова:
нонконформизм, ранний академизм, барокко, натурализм, кьяроскуро, нарушение норм и канонов, сакральные сюжеты
Для цитирования:
Якимович А.К. Караваджо – нарушитель спокойствия и революционер // Academia. 2021. № 3. C. 282–292. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-282-292
Caravaggio: The Troublemaker and Revolutionary
Alexander K. Jakimovicz
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russian Federation, yakimovitch@mail.ru
Abstract:
Caravaggio (1571–1610) chronologically opens (or prepares) the new stage of art history known as Modernity. He must be finally ranked among the troublemakers – the aesthetic and socio-cultural rebels of this era. This idea belongs to Russian art historians Evsey Rotenberg and Marina Sviderskaya and explores Caravaggio’s artistic development from early stages of “nasty anecdotes” to mature works on biblical themes treated in a challenging manner.
Keywords:
Non-Conformism, Early Academism, Baroque, naturalism, chiaroscuro, undermining of norms, sacral subjects
For citation:
Jakimovicz, A.K. (2021), “Caravaggio: The Troublemaker and Revolutionary”, Academia, 2021, no 3, pp. 282–292. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-282-292
В истории обманутых ожиданий и дерзких вызовов общепринятой эстетике и этике виднейшее место занимает Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610). С него начинается цепочка художников-нарушителей, которые не случайно, а специально и последовательно нарушали предписанные правила и бросали вызов заказчикам и теоретикам искусства. Таков Караваджо – основоположник истории мятежа и подрыва основ в искусстве.
Этот факт представляется очевидным и несомненным с давних пор, но академическая наука обращается с проблемой новаторства в искусстве раннего Нового времени с характерной осторожностью. А именно, исследователи Европы и Америки как будто не сомневаются в том, что новаторство мастера вписывается в общее, почти безразмерное понятие «барокко». Караваджо описывается ими как революционер в рамках барокко – так сказать, искатель свободы на своей исторической «делянке», в сугубо итальянском ареале, где в XVII веке воцаряется эмоциональность, драматическая эффектность, неистовость самовыражения. Разные поколения исследователей видели в искусстве мастера именно «повышенную температуру» и темперамент обновителя итальянского барокко, куда мастер привнес свой воинствующий натурализм и острые контрасты светотени. Эту умеренную, неопасную точку зрения унаследовал и увековечил Х. Хиббард [Hibbard 1983], а затем поддержали и освятили последующие поколения специалистов по барокко. Великий художник описывался как мятежный дух в замкнутом пространстве одного-единственного стиля, пусть и такого размашистого, как барокко. В этой трактовке революционность Караваджо выглядит опасной разве что для официальной доктрины церковного и государственного барокко (если считать, что такая доктрина реально существовала) [Lambert 2015]. Нам предлагается поверить в то, что новаторство Караваджо ограничено узкой территорией одного из стилей, полностью привязанного к своему времени.
Как ни удивительно это звучит, но более высокая степень научной смелости обнаружилась в исследованиях советских ученых, опубликовавших свои книги и статьи в те времена, когда, казалось бы, следовало быть особо осторожным и, в частности, обходить стороной опасную проблему новаторства в искусстве. Тем не менее, Е.И. Ротенберг и М.И. Свидерская не побоялись представить эксперименты Караваджо в новом свете. Незабвенный Евсей Иосифович с присущей ему невозмутимостью, обезоруживавшей оппонентов, развивал мысль о том, что в XVII веке родился новый тип искусства, покинувший прежние пределы стилевых норм. Караваджо был осмыслен как художник «внестилевой линии развития», породившей в последующие века и эпохи то богатство отважных индивидуальных экспериментов, которое отличает современность в искусстве [Ротенберг 1989]. Отталкиваясь от концепции своего учителя, Марина Ильинична Свидерская решительно объявила, что маэстро Караваджо и был, собственно говоря, первым художником Современности [Свидерская 2001]. Иными словами, он принадлежит не только к исторически узкому пространству под названием «итальянское барокко», но и причастен к горизонтам будущего развития искусств – ищущих, непокорных, мятежных. Эта линия в понимании творчества великого мастера представляется автору данной работы единственно верной и перспективной.
Пресловутый «плохой мальчик» итальянского барокко вовсе не был двоечником или прогульщиком. Его выучка была не легковесной, а, напротив, довольно основательной. Традиции и устои он воспринял и впитал. Караваджо – выходец из Ломбардии, и уроки тамошнего художника Симоне Петерцано оказались для него вполне плодотворными. Сам учитель считался учеником Тициана, который обладал огромным авторитетом в итальянском и европейском искусстве. Наследие Тициана стало доступным молодому северянину Караваджо благодаря не только его миланскому учителю, но и посещению Венеции в годы ученичества [Giorgi 1999]. Вероятно, венецианцы и, возможно, мастера Северной Европы, которые были лучше известны в Венеции, чем в других городах Италии, внушили нашему герою уважение к натуре, нежелание ее идеализировать и особый интерес к эффектам светотени.
Надо заметить, что к концу XVI века, когда молодой художник выходит на общественную арену Рима, в области искусства ощущается присутствие нормативной эстетики [Friedlaender 1955]. В среде ватиканских клириков и светских любителей искусства рождается академическая теория высокого, классического, правильного искусства. В какой степени произведения братьев Карраччи отвечали принципам академизма, которые ими провозглашались, – вопрос сложный и неоднозначный. Теория и практика никогда на самом деле не совпадают. Но как бы то ни было, опыты Карраччи, а позднее Гвидо Рени и Доменикино служили долгое время аргументом в академической теории «синтеза достоинств». Умные люди, знатоки и теоретики, просвещенные кардиналы и прочие околохудожественные участники процесса с удовольствием повторяли мысли о том, что искусство обязано опираться на достижения великих мастеров, причем опираться синтетически. Искусству предписывалось соединять вместе великолепие колорита и игру кисти, умелый и точный классический рисунок, пластическую форму и решение пространства – то есть перед нами своего рода школярско-догматическая конструкция типа «за все хорошее».
Практическая реализация тезисов академической и ученой среды тогдашних знатоков была довольно скромной, ибо ни один из Карраччи и никто другой из их круга не был наделен выдающимися творческими потенциями. Великим мастерам прошлого они не ровня, но программа и общая направленность очевидны. Вот перед нами картина «Добрая самаритянка» Аннибале Карраччи (1594, Британский музей). Тут маэстро пытается поучиться у Тициана – но не повторять тициановы увлечения, излишества и перехлесты, а «обуздать» неистового мастера, сделать его, так сказать, ручным и нестрашным [Posner 1971]. В других своих картинах синьор Карраччи скорее воспроизводит мускулистые формы тел Микеланджело. Почтенный академик старательно имитирует и соединяет друг с другом разные почерки и манеры мастеров Ренессанса, но опасные философские вопросы и непозволительные прозрения, которые присутствуют в шедеврах великих мастеров, для Карраччи как бы не существуют вовсе. Точнее, он их старательно обходит (даже если догадывается о существовании в искусстве опасных тайн).
Первые академисты и их предшественники пришли в мир, чтобы унаследовать стилистику, почерки, манеры старых мастеров, сделать их усредненно-употребимыми и добиться того, чтобы при взгляде на картину в глазах, душе и уме не возникали какие-нибудь «неконтролируемые смыслы» и опасные идеи. Академия дельи Инкамминати (то есть «Академия ставших на правильный путь») и так называемая Болонская школа – это первые попытки художников и культурных властей приручить и сделать конформными опасные опыты и дерзкие достижения титанов Возрождения.
Все вышесказанное не означает, что в картинах болонских академиков нет вообще ничего интересного и значительного. Их продукция количественно внушительна, у них есть работы более удачные и менее удачные, и они сумели произвести на свет целый ряд картин и росписей музейного качества. То есть они смогли обеспечить хороший средний профессиональный уровень работы и даже высокое мастерство. Среди первых последователей академической доктрины были такие большие мастера, как Гверчино и Доменикино. Но дело не в том, каковы сегодняшние оценки и толкования произведений Аннибале Карраччи, Доменикино, Гвидо Рени и других академиков. Важно, что они были одним из главных факторов создания и укрепления в Риме в конце XVI – первой половине XVII вв. своеобразной атмосферы «контролируемого креатива».
Сложилась такая культурная среда, которой до этого, в эпоху титанов, вовсе не было. В ренессансном XVI веке тоже бывали такие случаи, когда важные персоны или высокопоставленные заказчики пытались давать мастерам кисти и резца ценные указания или ставить им на вид какие-либо огрехи. Всегда находились любители продиктовать художникам какие-нибудь высшие принципы или эстетические абсолюты, призвать их стремиться к «высокому идеалу» и прочее в том же роде. Но раньше, во времена титанов, из этого обычно ничего не получалось.
Времена изменились. Конец XVI и первая половина XVII века – это эпоха существования влиятельных кругов образованных любителей и заказчиков, установивших вокруг себя и в сфере искусств своего рода диктат усреднения, принцип так называемого декорума, то есть соблюдения сдержанности и приличий. На самом деле, если отвлечься от умных цитат и ссылок на Аристотеля и отцов церкви, речь шла о том, что художнику негоже рисовать и писать вызывающе или как-либо задевать чувства образованного консервативного потребителя. Именно поэтому в академической среде так пылко восхвалялся Рафаэль, а Микеланджело всегда имел какой-то двусмысленный статус. Это был великий гений, но он позволял себе слишком много и не знал меры. А теперь настали такие времена, когда художнику надо знать меру и считаться с ожиданиями знающих людей, светочей культуры. Наступила эпоха контрреформации (в католическом ареале) и институционализации протестантских деноминаций (в остальной Европе), и от художника требовалась идеологическая дисциплинированность и уважение к «духовным скрепам». Учись хорошо, подражай старым мастерам и думай об идеале и добронравии…
Сейчас нам важно, прежде всего, подчеркнуть тот факт, что в обстановке первой стадии академического контроля и усреднения искусств появился мастер с бунтарскими наклонностями. В районе 1600 года Караваджо пошел по пути резкого, вызывающего, даже демонстративного нарушения правил. Его поведение также было нарочито антиобщественным [Graham-Dixon 2009]. Он как бы пытался дать понять своему окружению, что художник – это не рядовой обыватель, который ведет себя прилично, стремится к идеальному соединению «рисунка и колорита», слушается своего падре и регулярно посещает церковь. Из десяти библейских заповедей Караваджо нарушал если не все, то большинство. Его участие в азартных играх в 1606 году привело к фатальной уличной схватке, в которой Караваджо заколол либо тяжело ранил своего противника. За этим последовал побег на юг Италии, ибо оставаться в Риме после такого преступления было невозможно. Собственно говоря, антиобщественное поведение и привело к ранней смерти талантливейшего живописца. Он не дожил до сорока лет и умер, а фактически погиб, в 1610 году, пытаясь перебраться из Неаполя в Рим в надежде на папскую амнистию.
Рассказать про образ жизни и разного рода «художества» Караваджо в смысле поведенческих отклонений в данном случае имеет смысл. Мы видим, что на арене искусств появляется тип художника, который в своем творчестве желает показать себя независимым и действовать с вызовом, почти что издеваясь над нормами и правилами. В своих картинах он такой же, как в жизни. В истории искусства это первый образец художника-нонконформиста, который пишет вызывающие картины и сам ведет себя вызывающе и демонстративно неправильно (скандально, антисоциально). Такая органическая целостность самого типа мятежника – не слишком частый случай. Мы можем предположить, например, что Пуссен в молодости тоже «давал жару» и доставлял массу проблем своим близким и даже первым встречным. Так, имеются свидетельства о том, что он приехал в Рим в тридцатилетнем возрасте сильно больным, и болел он дурной болезнью, то есть подцепил венерическую хворь в своих странствиях по дорогам Франции и Италии; известно, что хорошие мальчики дурными болезнями не болеют. Случай Пуссена достаточно типичен: он в молодости перебесился, а затем стал тихим и строгим затворником, мудрецом и философом с кистью в руке. Другое дело Караваджо, который бросил вызов обществу именно тогда, когда его талант созрел и раскрылся.
«Лютнист» (другой вариант – «Лютнистка») – это название нескольких картин кисти Караваджо на одну тему; одна из версий есть в Эрмитаже (1596). Здесь показателен сам выбор модели, чья гендерная принадлежность не слишком отчетлива. Может быть, перед нами юноша, а может быть, и девушка. Округлое нежное лицо с миндалевидными большими темными глазами встречается и в других работах мастера ранних лет, до 1600 года. Нередко думают, что в облике этого музицирующего существа запечатлен юный приятель художника Марио Миннити, который тоже был художником и обладал своеобразной двусмысленной внешностью. Как бы то ни было, возникают догадки о том, что такие персонажи раннего Караваджо воссоздают черты и атмосферу тогдашнего ЛГБТ-сообщества, которое было в Италии довольно обширным и заметным. Караваджо как участник римских банд уличной шпаны контактировал с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, и в его картине воспроизведен характерный тип и красноречивый облик одного из них.
Любители иконологических штудий могут вникать в возможную символику музыкальных инструментов, ибо на картине из Эрмитажа изображены скрипка, лютня и флейта. Следует ли видеть в инструментах намеки на женское начало (скрипка и лютня) и мужское, фаллическое начало (флейта)? Кому это в радость, тот пусть и раскапывает такие детали. Глядишь, появится еще одна ученая статья, а то и диссертация. Обычному же зрителю, который по-настоящему любит искусство, очевидны другие свойства и зримые характеристики этого произведения: дразнящая сексуальная амбивалентность модели и первые опыты Караваджо с резкой контрастной светотенью, с кьяроскуро. Понятное дело, что подобная трактовка светотени очень сильно способствует драматическому, резкому впечатлению, поскольку вылепленные формы буквально бросаются в глаза.
Более мягкая светотень и основательная пластическая проработка форм наблюдаются в картине «Вакх» из галереи Уффици (1596), где можно видеть своеобразную работу мастера по умножению мастерства. Аллегорический мифологический сюжет здесь – не более чем предлог для того, чтобы внимательно и натурально прописать и анатомические формы, и сочные фрукты на столе. В сущности, это учебная постановка молодого мастера, у которого, по всей видимости, была возможность ходить по богатым домам и храмам, бывать в Ватикане, находить там в папской коллекции образцы великолепной живописи и наращивать свое мастерство. Он быстро прогрессировал.
Первые шаги Караваджо в живописи были направлены на выражение элементарных ощущений простейшего чувственного упоения дарами природы. Он осваивает ремесло живописца и стремится выразить не какие-либо зашифрованные мудрые мысли, но простое как мычание счастливое любование молодостью, телесным благополучием и сочными фруктами, да еще и погрузить эти прекрасные вещи в благодатный свет, и чтобы тени играли. Перед нами живопись, посвященная радостям природной и органической Жизни.
Когда мастер намекает на какие-нибудь умные умности, на античную мифологию или на что-то музыкально-символическое, это своего рода наивные предлоги или, точнее, зацепки. В свои первые годы он более всего желает высказаться о том, что ему хорошо смотреть на эти здоровые лица, эти фрукты и это вино в бокале, а интеллектуальные подтексты его не очень волнуют. Но поскольку заказчики уважают ученость, то почему бы не сделать вид, что речь идет об античном божестве или о каких-нибудь олицетворениях? Можно видеть в таком подходе к делу рудиментарное квазииносказание.
При этом он начинает экспериментировать. А именно, вносит в свои жанровые картины определенные оттенки неблагополучия и беды. Молодое тело и прекрасный мир вокруг, полный прекрасных вещей, переживают неприятности. «Больной Вакх» из римской галереи Боргезе – один из таких экспериментов молодого мастера с неблагополучиями и неприятностями человеческой жизни. Античные имена в ранних работах – своего рода прикрытие для неантичных забот. Перед нами крепкий молодой человек, но он занемог. Считается, что в облике этого юноши с нездоровым цветом лица и в его несколько усталой позе запечатлены черты самого Караваджо, который вроде бы болел лихорадкой (для города Рима и его окрестностей в те времена лихорадка – настоящий бич божий). Но сама идея – написать себя больным и «замаскировать» этот автопортрет во время болезни мифологической вывеской «Вакх» – это своего рода дерзость в отношении тех, кто заказывал и оценивал работу живописцев в те времена.
В картинах молодого Караваджо речь все время идет о молодых людях: там молодые тела, крепкие руки и плечи; налицо радости жизни и разного рода наслаждения – прекрасные фрукты и звуки музыки. Речь идет именно о том, что «жизнь хороша», без каких-либо наставительных или поучительных подтекстов. Античные имена здесь играют роль фиговых листков. На самом деле молодой мастер рассказывает нам про эпизоды молодой жизни, которая восхитительна сама по себе, просто по той причине, что она есть жизнь; она упивается собою, и ее радости открыты молодому существу. Этого достаточно. Перед нами картины об элементарном молодом ощущении жизни как безотчетного блага вне всяких рассуждений и умствований. Но существует и болезнь, и жизнь знакома с мучительными состояниями; «больной Вакх» с трудом берет в руки кисть винограда и смотрит в нашу сторону с вымученной улыбкой, словно хочет сказать: «Вот черт, как же я влип, и какая это гадость – римская лихорадка».
«Мальчик, укушенный ящерицей» из Лондонской национальной галереи – яркий пример своеобразного юношеского вызова[1]. Тут мы напрасно будем искать какие-нибудь скрытые смыслы и мудреные иносказания. Хотя можно пофилософствовать о том, что и в прекрасные моменты жизни, когда нас радуют цветы и фрукты, когда мы молоды и наши плечи сильны, а кожа гладка и упруга, следовало бы помнить, что существуют неприятности, напасти, удары судьбы, и возможны страдания. Если нам нравится усматривать в картине подобные наставительные намеки, то никто нам этого не запретит. Но все-таки это не главное. Главное тут – сам замысел «случая из жизни». Вот протянул молодой и сильный человек руку к прекрасным цветам, а оттуда выскакивает противная тварь и хвать за палец.
Едва ли не впервые в истории художник пишет кистью и прикладывает высокое мастерство живописца к сюжету типа «скверный анекдот». Возможно, что на самом деле мастер обесценивает и развенчивает сам принцип аллегорического смысла. Нечего заниматься аллегориями и мудрствовать лукаво, ежели ты на кнопку сел или тебя какая-то вредная тварь за палец тяпнула. Тут именно «жизни мышья беготня», мелочи и шероховатости, бытовизм во всей его красе, а вовсе не аллегореза. Притом заметим, с каким выверенным мастерством живописец пишет здесь эти цветы и фрукты, этот прозрачный сосуд, эти пальцы, это плечо, эти молодые горячие губы. То есть нам предлагают подумать о том, что большое искусство приложимо не только к большим идеям, но и к пустякам, к «банановой кожуре» и скверным анекдотам. На самом деле это немалая дерзость. Изобразительное искусство доросло до подобной творческой концепции гораздо позднее, уже в XIX веке, когда начало исследовать горизонты возможностей и крайности парадоксов реализма. Искусство документальности в XX веке стало еще более вызывающим продолжением этой линии развития.
Получив некоторую известность, доказав свою творческую потенцию и нарастив профессиональный ресурс, Караваджо ищет сюжеты и решения в разных областях, от уличной жизни до высоких библейских тем. Но в любом случае он добивается режущей остроты и дерзкого новаторства – как в светотеневых контрастах, так и в режиссуре своих фигурных сцен.
Откровенный и, можно сказать, прямолинейный вызов миру приличных людей содержится в картинах мастера, изображающих карточных шулеров и гадалок (то есть представителей низовой уличной жизни того времени). Картина «Шулера» (после 1594, Форт-Уэрт, США) – эпизод из серии произведений на тему уличной жизни большого города, которая была близко знакома художнику в годы его бурной молодости. Здесь перед нами двое бойких молодых людей нагло облапошивают прилично одетого, скромного молодого человека, скорее всего, приехавшего из провинции неопытного чужака, который оказался в большом городе, где ему наверняка придется туго в уличном царстве шпаны, проституток обоего пола и разного рода жуликов. Среда обитания героев была известна живописцу досконально. Он писал свою картину как опытный специалист в области тех приемов, с помощью которых облапошивают неопытных юнцов в сомнительных местах большого города. Может быть, вспоминал свои первые шаги в Риме?
Около десяти лет Караваджо практиковал подобные сюжеты и оттачивал свою технику кьяроскуро, работал над мимикой, карнацией, гримасами на лице и другими важными для реалиста моментами. Затем он, фигурально выражаясь, пошел ва-банк и около или после 1600 года взялся за сакральные сюжеты. Его картины одна за другой, как бомбы, падали на головы римских заказчиков и знатоков искусства, порождая скандал за скандалом. Возникали недоумения и возмущения, и, вообще говоря, на то были свои причины. Караваджо превращает Священное Писание в источник сюжетов для подрывных изображений [Kitson 1967]. То есть пишет нечто такое, что для зрителей было непривычно, неприемлемо и даже непростительно.
Начнем с «Неверия Фомы» (1602, Потсдам, дворец Сан-Суси). Грубый и нечесаный мужик крестьянского вида вкладывает свои корявые пальцы в рану на груди Христа. Налицо вызывающий физиологизм ковыряния грубого мужика грязным пальцем в открытой ране Спасителя, что само по себе вполне может покоробить зрителя. Караваджо, можно сказать, нагрубил и сознательно надерзил верующей и культурной общественности, когда написал эту сцену с такой вызывающей и резкой прямотой.
Отметим, что при этом он формально ничего в Библии не исказил – напротив, передал текст оной буквально. В Писании сказано, что Христос предложил Фоме, дабы он удостоверился в реальности воскресения Спасителя, «вложить персты в рану». Именно вложить в рану. Но до того и после живописцы чаще всего каким-либо образом смягчали этот шокирующий, скребущий по нервам момент. В ГМИИ им. А.С. Пушкина есть картина, предположительно Рембрандта (или, скорее, кого-то из последователей) на тему «Неверие Фомы». Там Христос показывает свою рану недоверчивому апостолу и, очевидно, произносит уже процитированные слова, а тот взволнован и не решается вложить в нее свои персты. Налицо деликатная трактовка, характерная для религиозной культуры. У Караваджо апостол Фома беспардонно лезет нечистым пальцем в рану, а Христос своей рукой то ли направляет руку апостола, чтобы тот действовал решительнее, то ли пытается удержать, возможно, чувствуя боль, как обычный человек. В любом случае Караваджо шокирует нас, если мы с вами – средние нормальные верующие зрители христианского мира. Нам такие вещи не очень приятно видеть. Мы готовы читать в Писании и других сакральных текстах самые ужасные подробности о казни и мученичестве Христа или святых, но слишком прямые визуальные демонстрации этих шокирующих сцен обычному зрителю не по душе. Мы с некоторым смущением смотрим на распятого Христа в изображении Грюневальда, ибо там реальность измученного и запытанного до смерти несчастного тела слишком ужасна для наших социально подготовленных глаз.
Караваджо делает то, что, скорее всего, было сознательной и последовательной программой действий, даже своего рода стратегией. Его цель – бросить вызов обществу и нарушить приличия, принятые нормы, ожидания и ограничения и показать библейские события в шокирующем виде. Она находит продолжение и в других картинах мастера на библейские темы. Такого дерзкого обхождения с сюжетами священной истории доселе не случалось.
Вот «Обращение Савла» или «Обращение на пути в Дамаск» (1601, Санта-Мария-дель-Пополо, Рим). Согласно легенде, военачальник и правитель сирийских владений Рима, гонитель христиан Савл (Саул) ехал на коне в город Дамаск по своим делам, и тут случилось непредвиденное: ударили гром и молния, и потрясенный грешник услышал голос с неба, который обратился к нему с обличительными словами.
Итак, Савл услышал слово свыше и пал на землю, был глубоко потрясен, уверовал и стал новым человеком, праведным последователем Иисуса Христа. С тех пор мы знаем его как апостола Павла. Картина Караваджо в целом соответствует новозаветному рассказу: бывший ненавистник Христа лежит на земле и освещен потоком света, падающего сверху; он беспомощно или с просьбой о милости воздевает руки – всё изображено так, как описано в источнике. Но при этом художник выбирает такую композицию, когда главный герой, Савл, оказывается внизу, на земле, и превращен почти что во второстепенную фигуру, а главную роль в картине играет большой конь. В общем, перед нами картина про коня, а история обращения будущего апостола превращается чуть ли не в приложение к главному сюжету. Савл лежит и беспомощно протягивает вверх руки, а могучий круп великолепного коня вылеплен на диво. Мизансцена очень красноречивая.
Заказчики, благочестивые монахи, были обескуражены и возмущены. Художнику заказали картину на знаменитый священный сюжет, а получили картину с лошадью, где лошадиный зад выглядит важнее и внушительнее, да и виден лучше, чем лицо героя, тем более что в опрокинутом виде даже и не разобрать, какое у него выражение. Караваджо – просто-напросто хулиган. В общем, это скандал, вызов и дерзость, при том что написана эта «картина про лошадь апостола» с большой силой и той скульптурной концентрацией, которая заставляет вспомнить пластические возможности Микеланджело.
Другой бы на месте Караваджо смутился и отступил под напором всеобщего недоумения и возмущения. От него добивались соблюдения эстетических и этических норм и приличий, требовали красивой и достойной трактовки священных сюжетов, героев Писания, которые выглядели бы как положено согласно рассудительным заветам академиков Болоньи и других уважаемых умов того времени. В Риме теперь такие нравы и эстетические предпочтения.
Думается, что некоторые картины мастера на этом этапе стали ответом на призывы отказаться от грубостей и вызывающих поворотов и писать красиво, идеально, правильно. Например, «Отдых на пути в Египет» (ок. 1600, Галерея Дориа-Памфили, Рим). Богоматерь вконец умаялась от долгой дороги и заснула сидя, уронив голову, без всякого уважения к изяществу. Так усталая женщина засыпает в подмосковной электричке, ничуть не заботясь о заветах классической эстетики. Пожилой, седой и простонародный Иосиф не имеет права спать, ибо работает подставкой: он держит нотную тетрадь, с которой играет сладкую мелодию на скрипке явившийся путникам с неба ангел (или этот посланец небес снится старику Иосифу?).
Неловкая поза и упавшая голова Марии вызывают опасения, что у нее вскоре заболит шея. Ангел здесь – это своего рода иронический поклон в сторону римских знатоков и ученых мужей, которые требуют от художников красивого классического искусства. «Нате, получите», – беззвучно отвечает художник. У ангела сладкий, прелестный профиль, очаровательное женственное плечико, в меру пухлые, гладкие ножки и изысканно закрученная драпировка. При этом возникает многозначительный контраст высокой («ангельской») эстетики с грубой земной натурой. Присмотритесь, как напряженно держится Иосиф, как он грубыми мозолистыми руками вцепился в нотную партитуру, словно боится ее выронить, как он таращит глаза на своей морщинистой физиономии, словно боится заснуть под сладкие звуки ангельской скрипки. Старик утомился в пути, ему бы прикорнуть, а тут надо бодрствовать, да еще и ноты держать перед крылатым музыкантом.
Определенно, здесь мастер добродушно иронизирует и над своими героями, и над своими оппонентами – поклонниками идеального стиля и высокой эстетики. В общем, перед нами своего рода диалог художника с большой академической теорией своего времени [Bologna 1996]. От него требовали идеальной красоты, а он в ответ поставил в центре картины идеального ангела, но буквально столкнул его с повседневной реальностью обычных людей, вовсе не идеальных.
Та же самая ситуация воплощена в картине «Матфей и ангел» (1602, Сан-Луиджи-деи-Франчези), но здесь столкновение грубой реальности с возвышенной прелестью небесного посланца приобретает резко выраженный и даже вызывающий характер. В данном случае Матфей – это грубый мужик с крепкими ногами, мозолистыми ступнями и корявыми пальцами рук. Он морщит свою обросшую неухоженной бородой физиономию и тщится занести слова в рукопись Евангелия, которое ему предопределено написать. Но писать он явно не умеет, его жилистая рука не привыкла к тонкому стилосу или перу, и поэтому рядом с ним расположился помощник – ангел небесный, грациозное существо иной, нездешней природы, который своими легкими пальчиками пытается помочь Матфею осуществить свое предназначение. Картина про Матфея – это столкновение лоб в лоб двух эстетик: справа – эстетика римских знатоков и академиков, изящное надмирное создание с крыльями, слева – простой человек со всеми признаками подчеркнуто земной, грубой реальности.
Таким образом, Караваджо своими картинами как бы проиллюстрировал ту дискуссию, которая происходила в Риме между эстетикой идеальной красоты с одной стороны и грубой правдой жизни – с другой.
Караваджо доводит свою режиссуру «сшибки двух эстетик» до апогея в картине «Юдифь и Олоферн» (ок. 1600, палаццо Барберини, Рим). Здесь один полюс – это грубый мужчина, мускулистый и страшноватый Олоферн. Другой полюс – Юдифь, иудейская красавица, похожая на танцующую нимфу. Словно выполняя грациозные па неведомого танца, эта изящная воительница легко и как бы играючи отрезает башку чудовищному дядьке, врагу избранного народа. Она прилагает к этому богоугодному делу не больше физических усилий, чем домашняя хозяйка при нарезке яблок для пирога.
Но самые строптивые жесты нашего мастера – это «Успение Богоматери» (Лувр) и «Призвание Матфея» (Сан-Луиджи-деи-Франчези, Рим).
Луврское «Успение»[2] (1604–1606) – монументальная многофигурная сцена. Перед нами как будто сюжет из самой что ни на есть приземленной и тяжкой обыденности. Еще не старая, но бесконечно усталая от своей трудной жизни женщина испускает дух, а ее оплакивают или стоят вокруг в горестном недоумении какие-то крестьяне, возчики, ремесленники из провинции – в общем, крепкий, неотесанный и малоимущий народ, низы общества.
Картина была отвергнута заказчиком по причинам, возможно, надуманным, но в любом случае красноречивым. Источники сообщают, что распространился слух, будто для фигуры умирающей Марии позировала известная в определенных кругах проститутка, наверняка знакомая и самому Караваджо (если бы позировала известная куртизанка, было бы еще ничего, но дешевая уличная женщина как модель для Богоматери – это уже чересчур). Еще говорили, будто причиной недовольства заказчиков были босые ноги Марии, придающие ей слишком простонародный и неухоженный вид. Действительно, на первом плане видны непрезентабельные грубые босые ноги женщины из простонародья, которая явно не знала в своей жизни ни ухода за телом, ни хорошей обуви. Очевидно, тогдашних зрителей высших и средних классов такие детали в самом деле шокировали. Богоматерь высоко стоит в священной иерархии церкви, с нею надо обращаться почтительно и благоговейно, а перед нами картина, как будто изображающая смерть простолюдинки. Где же благоговение перед Матерью Божией?!
Наконец, мы добрались до апогея караваджиевской дерзости – римской картины 1600 года «Призвание апостола Матфея» [Gash 2004]. Здесь постановочное искусство и живописная смелость художника отличаются такой остротой и непривычной откровенностью, что просто дух захватывает. На самом деле мастер как бы переводит события евангельского рассказа в регистр грубой и опасной жизни городского дна [Varriano 2006].
Христос приходит к подонкам общества – вот о чем эта картина. Сцена построена следующим образом. Слева на заднем плане сидит благообразный бородатый Матфей, сборщик налогов. Рядом с ним его помощники, а точнее сказать, подручные. В то время в Италии у этих представителей власти репутация была хуже некуда. Здесь перед нами троица налоговиков, которые пересчитывают монеты, отнятые ими у разных людей под предлогом сбора налогов. Иначе говоря, плохие люди возятся с деньгами, отжатыми у рыночных торговцев, проезжих крестьян где-нибудь на мосту, у бедной вдовы и работяги с молотком и пилой. В сущности, сотрудник налоговых органов – это грабитель на службе у небрезгливого государства. Так было в Италии в те времена. И не только там, и не только тогда. И главный среди этой команды – Матфей, мужчина с солидной ухоженной бородой.
Компанию, чтобы не сказать свору, налоговиков сопровождают типичные представители городского дна – например, юный красавчик со слегка женственным холеным лицом, в щегольском наряде и эффектной шляпе с пером. Это порождение большого города кладет свою руку на плечо главного начальника выжимателей налогов Матфея. Мы узнаём в этом юном существе подобие тех самых представителей уличного порока, которые запечатлены на более ранних картинах Караваджо. Спиной к нам за «столом подонков» сидит особенно выразительный тип: это охранник, крепкий молодой человек с мускулистыми ногами в щегольских рейтузах, в костюме бретёра. Это тонкая блуза с просторными полосатыми рукавами, которые удобны при фехтовании: они не стесняют движений, а контрастная расцветка помогает сбить с толку и дезориентировать противника. В общем, перед нами лихая римская шпана, уличный боец, способный на мокрое дело, и здесь он сидит в самом центре, то есть это значимая фигура. Таких людей в Италии называли словом «браво», что-то вроде «крутой парень» (в российском криминальном жаргоне подобные молодцы прежде именовались «атлетами»).
В это гнездо подонков откуда-то справа входит удивительное существо – странник с изможденным лицом и нимбом над головою, который протягивает руку в сторону предводителя налоговиков, мерзавца Матфея, и произносит слова, памятные нам из Писания: «Следуй за Мною». Матфей, будто в трансе, прикладывает руку к груди, как бы спрашивая: «Меня ли зовешь, Господи?» То есть он, законченный грешник на глубине падения, моментально признает в страннике Сына Божия, Спасителя и Учителя, и уже готов идти за Ним. Остальные либо не замечают пришельца, либо реагируют на него с некоторым недоумением.
Прочитать подобным манером Священное Писание – это такой ход, от которого вся приличная публика и теоретические умы города Рима должны были возмутиться. Христос приходит к подонкам общества – это же надо было додуматься нарисовать такое! Хотя, строго говоря, Библия позволяет увидеть этот сюжет таким образом. Но тогдашние хранители высокого искусства и благонравия среди академиков и духовных пастырей на дух не переносили дерзостей и вольнодумства.
Караваджо был бескомпромиссно непримирим к той приличной традиционной публике, которую философ Шлегель в XIX веке называл «гармоническими пошляками». Для этой культурной среды, требующей соблюдения норм, правил и приличий, мыслитель XX века Жорж Батай придумал еще более резкое определение, которое на русский язык можно перевести только на грани цензуры: «идеалистические засранцы». Надо полагать, что нарушитель спокойствия Караваджо одобрил бы это хлесткое, напоминающее пощечину выражение – emmerdeurs idealistes.
Литература
- Ротенберг 1989 – Ротенберг Е.И. Искусство XVII века. Тематические принципы. М.: Искусство, 1989.
- Ротенберг 1989 – Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI–XVII веков. М.: Советский художник, 1989.
- Свидерская 2001 – Свидерская М.И. Караваджо: Первый современный художник. Проблемный очерк. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
- Якимович 2011 – Якимович А. Искусство непослушания. Вольные беседы о свободе творчества. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011.
- Bologna 1996 – Bologna F. L’incredulità di Caravaggio e l’esperienza delle “cose naturali”, Torino: Bollati Boringhieri, 1996.
- Friedlaender 1955 – Friedlaender W. Caravaggio Studies, Princeton: Princeton University Press, 1955.
- Gash 2004 – Gash J. Caravaggio, London, Chaucer Press, 2004.
- Giorgi 1999 – Giorgi R. Caravaggio: Master of light and dark – his life in paintings. Dorling Kindersley, 1999.
- Graham-Dixon 2009 – Graham-Dixon A. Caravaggio: A Life Sacred and Profane, London: Allen Lane, 2009.
- Hibbard 1983 – Hibbard H. Caravaggio. London Routledge, 1983.
- Kitson 1967 – Kitson M. The Complete Paintings of Caravaggio. London: Abrams, 1967.
- Lambert 2000 – Lambert G. Caravaggio. Cologne: Taschen, 2000.
- Posner 1971 – Posner D. Annibale Carracci: A Study in the reform of Italian Painting around 1590. London, 1971.
- Thornhill 2015 – Thornhill A. Caravaggio: Paintings in Close Up. Kindle edition, 2015.
- Varriano 2006 – Varriano J.L. Caravaggio: The Art of Realism. Pennsylvania State University Press, 2006.
References
- Rotenberg, E.I. (1989), Iskusstvo XVII veka. Tematicheskie printsipy [Art in the 17th century. Thematic principles], Iskusstvo, Мoscow, USSR.
- Rotenberg, E.I. (1989), Iskusstvo Italii XVI–XVII vekov [Italian Art in 16th–17th centuries], Sovetsky Khudozhnik, Moscow, USSR.
- Sviderskaya, M.I. (2001), Karavadzho: Pervy sovremenny khudozhnik. Problemny ocherk [Caravaggio: The first contemporary artist. Problematic essay], Dmitry Bulanin, St Petersburg, Russia.
- Yakimovich, A. (2011), Iskusstvo neposlushaniya. Volnye besedy o svobode tvorchestva [The art of disobedience. Free talk about creative freedom], Dmitry Bulanin, St Petersburg, Russia.
- Bologna, F. (1996), L’incredulità di Caravaggio e l’esperienza delle “cose naturali”, Bollati Boringhieri, Torino, Italy.
- Friedlaender, W. (1955), Caravaggio Studies, Princeton University Press, USA.
- Gash, J. (2004), Caravaggio, Chaucer Press, London, UK.
- Giorgi, R. (1999), Caravaggio: Master of light and dark – his life in paintings, Dorling Kindersley, London, UK.
- Graham-Dixon, A. (2009), Caravaggio: A Life Sacred and Profane, Allen Lane, London, UK.
- Hibbard, H. (1983), Caravaggio. Routledge, London, UK.
- Kitson, M. (1967), The Complete Paintings of Caravaggio, Abrams, London, UK.
- Lambert, G. (2000) Caravaggio, Taschen, Cologne, Germany.
- Posner, D. (1971), Annibale Carracci: A Study in the reform of Italian Painting around 1590, London.
- Thornhill, A. (2015) Caravaggio: Paintings in Close Up, Kindle edition.
- Varriano, J.L. (2006), Caravaggio: The Art of Realism, Pennsylvania State University Press, USA.
[1] Дата 1594, нередко прилагаемая к данной работе, представляется слишком ранней. Собственноручный вариант находится в фонде Роберто Лонги (Флоренция).
[2] Смерть Марии или Morte della vergine (итал.) – прим. ред.
Авторы статьи
Информация об авторах
Александр К. Якимович, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21, yakimovitch@mail.ru
Authors Info
Alexander K. Jakimovicz, Dr. of Sci. (Art history), Academician of Russian Academy of Arts, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; yakimovitch@mail.ru