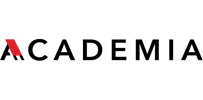Эрнст Барлах в России. 2 августа – 27 сентября 1906 года. Откровение пути
Юрий П. Маркин
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, germar@mail.ru
Аннотация
26 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге открылась выставка «Барлах – Кольвиц: В диалоге с русскими современниками». Она размещалась в Мраморном дворце, устроителями были «Общество Эрнста Барлаха» (Гамбург) и Русский музей. Обещанный «диалог» по ряду причин не состоялся, но церемония открытия имела иную подоплеку. Во-первых, юбилейную: выставкой отмечалось 150-летие со дня рождения каждого из этих знаменитых художников; во-вторых – теснейшей биографической и творческой связью их с Россией. Барлах в 1906 г., после двух месяцев пребывания на юге Украины, обрел подлинное откровение будущего своего пути художника-пацифиста; приезда Кольвиц в СССР в 1927 г. ожидали тысячи россиян, уже знакомых с ее творчеством. Все это нашло отражение в экспозиции в Мраморном дворце. Здесь впервые можно было видеть столь полный подбор скульптур и рисунков Барлаха из знаменитого цикла «Русские нищие» (1906 – 1908).
Ключевые слова:
Эрнст Барлах, пейзажи, простор, степь, крестьяне, нищие, зарисовки, танцы, песня
Для цитирования:
Маркин Ю.П. Эрнст Барлах в России. 2 августа – 27 сентября 1906 года. Откровение пути // Academia. 2021. № 4. C. 356–373. DOI: 10.37953/2079‑0341‑2021‑4‑1‑356‑373
Ernst Barlach in Russia. August 2 – September 27, 1906. Revelation of the Way
Yuri P. Markin
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, germar@mail.ru
Abstract
On April 26, 2018, the exhibition “Barlach – Kollwitz: In a dialogue with Russian contemporaries” was opened in St Petersburg. It was located in the Marble Palace, the organizers were the Ernst Barlach Society (Hamburg) and the Russian Museum. The promised dialogue did not take place for a number of reasons, but the opening ceremony had a different background. Firstly, the anniversary: the exhibition marked the 150th anniversary of the birth of each of these famous artists; secondly – their closest biographical and creative connection with Russia. In 1906, after two months of staying in the south of Russia, Barlach found a true revelation of the future of his way as a pacifist artist. In 1927, thousands of those who were already familiar with Kollwitz work were waiting her visit to the USSR. All this was reflected in the exhibition in the Marble Palace. Here for the first time, one could see such a complete selection of sculptures and drawings by Barlaсh of the famous cycle “Russian Beggars” (1906–1908).
Keywords:
Ernst Barlach, landscapes, expanse, steppe, peasants, beggars, sketches, dances, song
For citation:
Markin, Y.P. (2021), “Ernst Barlach in Russia. August 2 – September 27, 1906. Revelation of the Way”, Academia, 2021, no 4, pp. 356–373. DOI: 10.37953/2079‑0341‑2021‑4‑1‑356‑373
Вы, конечно, знаете, что во всем русском есть великая гордость. Но думали ли Вы когда-нибудь о том, что гордость и смирение – почти одно и то же, … и что к этому воззрению можно прийти в России, только в России?
Райнер Мария Рильке
Знаменитый немецкий художник и литератор Эрнст Барлах (1870 – 1938) получил академическую подготовку художника вовремя 12-летней учебы в Художествено-промышленном училище в Гамбурге, в Академии художеств в Дрездене и в частной Академии Р. Жулиана в Париже. После чего пытался утвердиться как скульптор в Гамбурге и Берлине (1898 – 1901), а также в области декоративно-прикладного искусства в Веделе (1901 – 1904) и как преподаватель в Школе художественной керамики в Хёре (1904 – 1905). В период 1905/06 г. он жил и работал в Берлине, изредка выставляясь в столичном Сецессионе или в Мюнхене (в Стеклянном дворце) в наивной надежде на скорую продажу своих работ, внимание прессы и на получение заказов. В итоге же оказался с семьей в крайней нужде и в состоянии полной депрессии. Его спас брат Николаус Барлах, уговорив сменить обстановку и уехать с ним в Южную Россию, где работал по контракту третий брат – инженер Ханс Барлах.
С трудом, но все же можно отчасти представить себе топографию поездок Эрнста в Украине (по записям в дневнике). Через Варшаву сначала в города: Киев, оттуда в Харьков, затем в Белгород. И, наконец, в самую глушь провинции – в бескрайние Донецкие степи: Краматоровка, Бахмут, Константиновка, Покатиловка и т.д., сплошь деревеньки.

Пребывание Эрнста Барлаха в России и внезапно последовавший за этим период интенсивного творческого подъема и сейчас еще фактически остаются за пределами пристального внимания исследователей. Дело даже не столько в отсутствии специальных работ, освещающих этот важный этап биографии художника! Как само собою разумеющееся в книгах о Барлахе оговаривается важность русских впечатлений в сложении дальнейшей судьбы скульптора. Однако делается это вскользь, причем неизменно склоняется тезис о том, что на развитие Барлаха решительное воздействие в это время оказывал русский символизм. Иногда для аналогии приводится параллель с Рильке и другими представителями западноевропейской интеллигенции, посещавшими Россию на рубеже XIX–XX веков.
Вывод этот не лишен объективной почвы, если иметь в виду характер путевых заметок в дневнике Барлаха во время его разъезда по Харьковщине. Они были впоследствии переработаны им в отдельные очерки – «Русский дневник» и «Поездка по степи» [Barlach 1959 Bd.II, S. 239 – 301]. Сам скульптор не раз признавал решающими для себя русские впечатления, при этом выражение «символика» и «символическое» употреблялись им достаточно часто.

И все же данный тезис не может не настораживать, особенно когда начинают с легкостью обнажать корни искомого влияния и приписывать Достоевскому или Толстому определенную роль в формировании творческого кредо Барлаха. При этом обычно сказывается склонность к преувеличению их воздействия на формирование некоторых творческих индивидуальностей или даже целых художественных явлений в искусстве ряда европейских стран. В немецкой литературе о Барлахе не делалось попыток четко разграничить такие различающиеся между собой понятия, как «русский символизм» и «русская символика», «символический» и т.д. Не смутило никого и полное отсутствие каких-либо источников, могущих пролить свет на контакты Барлаха с явлениями русского литературного и художественного символизма в момент его краткого пребывания в России. В раннем эпистолярном наследии скульптора нет упоминаний о русской культуре вообще[1], нет их и в его «Русском дневнике», если не считать единичных впечатлений от ремесленных икон да провинциального театра, воспринятого, скорее, как еще один этнографический курьез. Упоминания о Достоевском встречаются лишь с 1909 года.
Между тем проблема отношения Барлаха к России получает довольно ясное освещение в более поздних письмах скульптора, если внимательно вчитываться в отдельные их строки. В одном из них, кузену Карлу Барлаху в 1920 году, Барлах дает краткий, но исчерпывающий анализ собственных ощущений в России, прямо отрицая воздействие собственно русской культуры. «Я нашел в России это поразительное единство внутреннего и внешнего, символику. Таковы мы – люди! Все мы – нищие и в основе своей – существа проблематичные. И потому должен был я воплотить увиденное, и естественно, что во мне выросло братское чувство к этим страдающим, простым, тоскующим и вместе с тем испорченным людям, с их пьянством, пеньем и музыкой. Но это присуще всем подобным, кто <…> распадается, проклят, разрушен изнутри, их бесконечно много повсюду. Только славянин излучается этим, оно сквозит из него, он обнаруживает то, что другие прячут, и так получилось, что славянское при первом знакомстве оказалось мне ближе другого. Я почти не имею в виду славянскую культуру, я вообще не думаю о культуре...» [Barlach 1969 Bd.II, S. 594].

Голова бородатого крестьянина. 1906. Карандаш, лист 16,4 х 10,4. Ратцебург, собр. Н. Барлаха.
Признание, откровенно иллюстрирующее разницу барлаховского восприятия русской действительности и восприятий Рильке, например. Они могли оставаться общими лишь до известного предела – на стадии первичных впечатлений от своеобразия русской природы, людей и их обрядов, волнующих именно в символическом контексте. Но у Рильке эти впечатления вызвали дальнейшую потребность личного соприкосновения с Россией и прямых контактов с ее культурой, ведь сюда его привело заочное знакомство с загадочной русской душой, открытой им в произведениях Толстого и Достоевского. Отсюда – глубина и всесторонность этого соприкосновения; в два кратких пребывания, овладев трудным для него языком, Рильке основательно изучил современное состояние русской художественной культуры в обеих столицах, а также познакомился с ее прошлым, особенно древним искусством. Поэт дважды встречался с Толстым, общался с Чеховым, Репиным, Л. Пастернаком, П. Трубецким. Логическим завершением его ищущего интереса были контакты с ведущими фигурами русского символизма – Д. Мережковским, 3. Гиппиус, А. Бенуа, дягилевским кружком [Азадовский 1971, с. 357 – 390]. И заключительная поездка Рильке по Украине, вверх по Волге и, наконец, по Северу была уже прямым следствием обретенного внутреннего родства, насущной необходимостью еще более исчерпывающих впечатлений в предчувствии созревающего творческого отклика (вторая часть «Часослова», переводы «Слова о полку Игореве», «Чайки» Чехова, «Бедных людей» Достоевского).
С Барлахом в 1906 году все обстояло иначе. Когда он несколькими годами позже, по свежим впечатлениям от прочитанного Достоевского, взялся за иллюстрирование одного из его романов, удача отвернулась от него, хотя мера пережитого в России к тому времени уже нашла свое отражение в целом ряде великолепных пластических этюдов. Его первичное восприятие новой страны оказалось совершенно неподготовленным, резким по контрасту с обычным представлением о жизни и потому осталось самым сильным. На протяжении восьминедельного, путешествия по Украине Барлах не сдвинулся с позиции иностранца, скорее пораженного открытием нового для него человеческого бытия, нежели ощутившего волнующую потребность непосредственного контакта с ним. Он не раскрылся до конца навстречу русским впечатлениям, остался в состоянии все той же озадаченности увиденным, и в остроте этого состояния и заключался тот очистительный процесс, который вызвал в нем переворот представления об искусстве и человеческой жизни.

Аналогия с Рильке остается условной и по ряду других причин. Барлах находился в тех же местах под Харьковом, но пятью годами позёже чем Рильке, после подавления революции 1905 года. И увиденная им картина массовой нищеты и бедствий превосходила масштабами и крайностями все его представления о социальных контрастах жизни. Его дневниковые записи передают напряжение уже иной атмосферы: военные посты, беженцы, конвоируемые толпы заключенных и т.д. [Barlach 1959 Bd. II, S. 242 – 247]. В какой-то мере это обстоятельство способствовало его социальному прозрению, однако далекий от серьезных социологических размышлений художник воспринял открывшийся его впечатлительной душе мир прежде всего в аспекте сугубо собственных символических обобщений.
Собственная тяга и сопричастность к символическому определились у Барлаха в прямой и косвенной форме в еще в Германии, в ходе ранней литературно-художественной практики. В России эти предпосылки нашли свой истинный смысл и обрели под собой конкретную жизненную почву.
Трудно также предполагать, что Барлах был в какой-то мере подготовлен к русским впечатлениям интересом к немецкому критическому реализму рубежа XIX–XX веков. Упоминания о К. Кольвиц, Г. Балушеке или карикатурах «Симплициссимуса» не встречаются в его переписке до 1906 года, да и собственные работы не обнаруживают сходства с произведениями этих мастеров. И уж если говорить о какой-то подготовленности почвы, то следует иметь в виду иной объективный фактор – глубочайшую кризисную прострацию его сознания и творческого тонуса в канун поездки в Россию. Тогда внезапность произошедшей метаморфозы сознания, внезапность и глубина творческого озарения не будут казаться случайными. Сошлемся для примера на Винсента Ван Гога, испытавшего до некоторой степени сходное превращение – из священника в художника в его боринажский период.
Определенную роль в сложении новой системы мышления Барлаха-художника в России сыграли и другие ощущения. Он не мог – после двукратного посещения Парижа и нескольких лет жизни в Берлине – не быть захваченным общим для европейской образованной молодежи 900-х годов увлечением ориентализмом. Еще был слишком свеж в памяти пример Гогена и его полинезийских работ, определивший программу и творческий путь множества молодых мастеров. В немецком изобразительном искусстве волна нового увлечения также выявилась в середине 900-х годов с достаточной определенностью. Художественную сенсацию поочередно вызывали народные типажи П. Модерзон-Беккер, стилизованная под древнеегипетскую пластика Б. Хётгера, ранние полотна Э. Нольде.

Был опубликован под названием «Существование» в жур.«Симплициссимус» № 18, 1907.
То, что и Россия мыслилась и была своеобразным экзотическим катализатором для молодых мастеров Европы, доказывать тоже не приходится. Достаточно вспомнить, помимо Рильке, примеры других немецких художников – Э. Нольде с его поездкой по Сибири или М. Пехштейна, упорно рвавшегося в Россию. Сам Барлах на всю жизнь сохранил зародившийся в эти же годы интерес к древнему японскому искусству, китайской поэзии и философии, негритянской пластике и т.д. И хотя, повторяем, случай, приведший его в Россию, исключал всякую возможность программных поисков, все же отрицать наличие интереса к чужой стране в его восприятии было бы неверно.
Наглядно в этом можно убедиться, рассматривая графический материал, созданный скульптором в России или переработанный после возвращения в Германию. Он более непосредствен, чем пластика, как мгновенная фиксация наиболее поразительных встреч и явлений и потому откровеннее вскрывает суть первичных впечатлений Барлаха. Очень часто это восприятие экзотики, любопытство к невероятному обилию и разнообразию форм нищеты. Канючащие милостыню слепцы и старухи-нищенки, калеки, кликуши попадаются в зарисовках чаще всего; если Барлаха привлекает в человеке его лицо, то, как правило, это безошибочно выхваченный национальный типаж, несколько заостренный в своих основных приметах. «На перегоне Харьков – Киев напротив меня сидела русская супружеская чета. Я уже успел мало-мальски осмотреться вокруг, но такого настоящего материала мне еще не встречалось. Особенно женщина. Я выучил ее наизусть» [Schult 1948, S. 12).
Движимый чувством острого любопытства, он фиксирует занятия людей, но его притягивает в первую очередь необычное, зачастую негативное: мужики пьяные, горланящие на улице, дерущиеся или (реже) обрядовая экзотика – зарисовки деревенских праздников, похорон и т.д. Эти рисунки создают по-своему целостное представление о незнакомой стране. Захватившие Барлаха впечатления от необъятных степных просторов сложились в его возбужденном сознании в представление о некоем космическом мире с живущим в нем удивительным народом, чьи потенциальные возможности, сдерживаемые общественным неустройством и национальными пороками, все же не замедлят когда-нибудь проявиться. «Символы человеческого состояния во всей их обнаженности между небом и землей» [Barlach 1960, S.72] – так впоследствии он сам определил свои впечатления от захвативших его в России явлений-образов.

Полнее всего пережитое Барлахом в августе – сентябре 1906 года отражено в его «Русском дневнике», чтение которого доставляет истинное наслаждение глубиной и образностью авторского изложения. Суть выраженного в нем восприятия прекрасно подытожил его друг, писатель П. Вестхайм, заметивший как-то: «Здесь в степи, среди необъятных просторов и бесконечного горизонта, где все предметное как одна могучая масса вклубилось в бесконечность небес, в нем (Барлахе. – Ю.М.) как бы прорвался вдруг скрывавшийся до сих пор голос, проснулся внутренний инстинкт сути пластического воплощения, сути всех образов. Люди в могучих просторах, эти складки одеяний и коренастые фигуры, эти иссеченные ветром и непогодой лица – все вдруг возникло перед ним. «Черт побери, здесь засела бронза!» – так однажды выразил он мне свою озадаченность» [Westheim 1923, p. 85].
Многие из русских набросков Барлаха донесли именно синтезовый характер нового мироощущения, представление об абсолюте слиянности человека и его природного окружения, их внутренней взаимозависимости, фатально непознаваемой, но непреложной. Особенно показательны пейзажные зарисовки окрестностей Белгорода, Бахмута и Покатиловки, в которые Барлахом введены в качестве стаффажа человеческие фигуры. Увиденные обычно сверху, как бы с высоты птичьего полета, фигурки эти лишены отдельной смысловой значимости и просто включены художником в разворачивающийся акт величественного процесса природы. Барлах тонко уловил внутренний магнетизм русского равнинного пейзажа в его наиболее выразительных состояниях и чутьем символиста передал эти состояния в слегка преувеличенной, заостренной форме
В ряде набросков тот же сплав передан уже противоположным образом, и тогда фигура человека вырастает в масштабе, сообразно широте авторского обобщения. Два рисунка были позже включены в литографическую серию иллюстраций для «Поездки по степи» (1912) [Kunst und Künstler 1913, pp. 9–12]. На одном из них изображена, казалось бы, нелепая с точки зрения логики сцена: русский мужик в неудержимом порыве, с каким-то озлобленным ожесточением пляшет в одиночестве среди полей и холмов. Экстаз его столь же необъясним, сколько и все подавляющ. Барлах с некоторой прямолинейностью проводит здесь полюбившуюся ему метафору: огромная фигура пляшущего на переднем плане уравнена в масштабе с пейзажным фоном, они не противопоставляются друг другу, но именно соизмеряются в активности драматического состояния. Слепая безудержность и глубина человеческих страстей как эквивалент потенциальной и внешней взбудораженности стихий, их неотъемлемое, непознаваемое тождество.
Иной прием – в пределах той же смысловой задачи – применен в рисунке, названном «Отдыхающая степь». Среди борозд уходящего к горизонту поля, подобно громадным, обточенным временем валунам, в ленивой неге лежат три мужские фигуры, представленные в состоянии отрешенности, «философского» раздумья. Момент слиянности человека с природой доведен тут до торжествующего унисона! Могучие тела людей выглядят неподвижными, но сложные ракурсы делают их виртуально предрасположенными к активности. Они как бы стелются по земле, тяжеловесно извиваясь в лад с ее изборожденной плугом поверхностью, совершенно сливаясь с нею[2].
О том, что Барлах осознанно переводил на художественный язык открывшиеся ему в России впечатления, свидетельствуют многие строки из «Русского дневника». И наконец, в появившейся в 1928 году «Рассказанной жизни» мастер подробно обосновывает причину произошедшего в нем в России нового осмысления задач и методов пластического искусства.

«Я не нахожу надобности, – писал он, – в отрицании легенды о том, будто я «прежде всего благодаря России» пришел к пластическому выражению, или как это иначе еще формулируют. Правда заключалась в том, что действительность была для моих глаз действительностью пластической и что я привез с собой неутоленную в то время предрасположенность и способность к видению не каких-либо иных, а именно пластических ценностей. Россия дала мне свои образы, но конечно, и даже по всей вероятности, при формировании окончательного результата дело не обошлось без моего вклада, ибо, когда я по возвращении на Фриденау, в старой каморке приступил к первой паре нищих, которые были для меня символами человеческого состояния во всей его обнаженности между небом и землей, вернулось старое сомнение: что же это, наконец, – настоящая пластика или вновь моделировочная работа? В итоге еще предстояло много потрудиться, и только глупец может думать, что форма, появившаяся в России, была передана мне от избытка щедрот, из рук в руки, наподобие чаевых.
Форма? Всего лишь форма? Нет, неслыханное понимание открылось мне, гласившее: ты можешь без боязни отважиться на изображение всего тебе подвластного – самого поверхностного и самого глубокого, внутреннего, мимики благочестия и непристойности бешенства; для всего – называется ли это адским раем или райским адом – есть определенное выражение, ведь существует же в России что-то одно, а может быть, и то и другое сразу...» [Barlach 1960, S.72]. Конкретным подтверждением этого прозрения явились первые две работы из обширной серии русских образов 1906–1908 годов– «Нищенка с чашкой» и «Слепой нищий» (обе в терракоте). Они были выполнены Барлахом по возвращении почти молниеносно, по свежим впечатлениям, в его старом ателье в Берлине.
Внешне жизнь скульптора на исходе этого памятного года выглядела мало изменившейся. Барлах продолжал жестокую борьбу за существование, на этот раз с шестимесячным сыном на руках, не имея какого-либо постоянного заработка. Из свидетельства художественного критика К. Шефлера: «Однажды зимним днем повстречал я Барлаха на улице. В правой руке нес он сына, а в левой держал купленную керосиновую лампу. Выглядел он как переселенец, и, собственно говоря, так оно всегда и было» [Scheffler 1946, p. 131]. Тем яростнее было его творческое горение: в следующем, 1907 году он выполняет уже семь сильных, впечатляющих импровизаций на русскую тему. Художник смело экспериментирует с вариантами в керамике и бронзе, открывает для себя богатство дерева, продолжает работать над рисунками и параллельно заканчивает для публикации литературную обработку своих русских путевых заметок. Эта творческая пульсация несколько стихает лишь к середине 1908 года к окончанию последних четырех работ серии, но это уже логическое завершение большого напряженного периода, в конце которого скульптора ожидало, наконец, признание.
Отклик на новую манеру Барлаха был столь же реактивен, сколь и неожидан по контрасту с прежними оценками прессы. «Всех переполошил только Барлах двумя терракотами русских нищих, – писал К. Шефлер в обзоре весеннего Сецессиона 1907 года. – Сильный талант <…> известный небольшому кругу людей. Еще не было повода говорить о нем, ибо одно лишь трудолюбие и противоречивость поисков не позволяли пока создать что-либо зрелое. В этих фигурах сказалось потрясение художника своим материалом, человеческое переживание одновременно вылилось в художественное переживание формы. Социальная характеристика тоже присутствует здесь» [“Kunst und Künstler“ 1907, S. 355]. В поддержку работ Барлаха выступил также известный скульптор-анималист А. Гауль.

«Нищенка с чашкой» и «Слепой нищий» фигурировали в том же 1907 году на Немецкой национальной художественной выставке в Дюссельдорфе, а их место в Берлине заняли бронзовый «Разрезающий дыню» и шедевр серии – «Русская нищая» (первоначальный керамический вариант). В течение 1908 года на берлинском Сецессионе представлялись: «Нищая с ребенком» (гипс), «Сидящий пастух» (дерево), «Сидящая женщина» (дерево), «Сидящая девушка» (гипс), «Лежащий мужик» (дерево) и «Русская влюбленная пара» (гипс).
«Разрезающий дыню» (бронза, 1907) впервые в пределах серии представляет попытку обобщенной трактовки деревенского рубахи-парня средствами оригинального пластического мышления. Восседая (раскорячась – в типичнейшей для русского мужика позе за полевой трапезой!), этот глыбастый, кряжистый парень Барлаха удивительно монументален. Он, что называется, неладно скроен, но крепко сшит в своей четкой конструкции. Под стать его устойчивости в нем ощутима внутренняя динамика, наметка кругового движения всего торса, определяемая широким разводом ног и резким наклоном верхней части тела влево. Могучая природа, создававшая этот незатейливый, но надежный свой «инструмент», не проявила большей осторожности и с лицом человека. Уподобив себя великому скульптору, она кое-как намахала его грубые черты, редкими и глубокими прикосновениями громадного резца выделив самое существенное, на ее взгляд.
Перед «Разрезающим дыню» невольно вспоминаются строки «Русского дневника», где Барлах описывает внешность поющего мужика, создавая великолепнейший синтез литературно-пластической характеристики: «Линия глаз четко формовалась под массивным лбом, над спинкой носа, короткий нос был немного вздернут, а верхняя утолщенная губа возвышалась над нижней. Раздвоенная бородка спускалась слева и справа по подбородку, глаза глубоко прятались под тенью от глыбы лба и воспринимались не чем другим, как тенью. Певец морщил лоб, как бы вынося на его плоскость чудовищный внутренний порыв, его глаза оцепенели от трагического уныния» [Barlach 1959 Bd.II, S. 249].
В «Русской серии» впервые оказались намеченными две темы, ставшие впоследствии основными для Барлаха. Галерея человеческих типов по средствам внутренней характеристики делилась мастером на две категории – условно, разумеется, так как обе они немыслимы друг без друга как неотъемлемые составляющие логического развития идеи. Первую из них представляют образы символические – «Слепой нищий», «Русская нищая», «Нищая с ребенком». Это ранние и одни из лучших работ серии. В них почти достигнут тот предел обобщения темы, за которым типы обретают глубину общечеловеческого смысла. В каждой из них во весь голос заявлена сходная эпическая интонация, активно нарастающая от образа к образу.

Наиболее замкнут в себе слепец (керамика, 1907) хотя его психологический «портрет» демонстративно обнажен для зрителя в слегка запрокинутом вверх незрячем лице, а также в конструкции сложной позы. Ясно намеченное круговое раскачивание торса как бы замыкает в себе тему глубокой скорби, излучаемой фигурой и ликом нищего. У зрителя постепенно возникает понимание внутреннего настроения образа, спрятанного за привычной жестикуляцией, обращенной к людям. Оно может быть определено, прежде всего, как безысходность и бездонно по глубине, бесконечно в фазах кругового его восприятия зрителем.
Эта же тема получала более активное развитие в «Русской нищей» (1907, цветная керамика) чисто композиционными приемами, без попытки натурной конкретизации модели. Здесь налицо уже социальный протест, переданный через позу женщины. И наконец, в «Нищей с ребенком» (1907, бронзовый вариант) активность эта достигает кульминации. Изображенная мать воспринималась гневным обвинением своему времени и его законам, и ее протест обретал форму уже осознанного, адресованного вовне действия. Особенно запоминается взгляд женщины, доносящий всю чудовищность обуревающего ее внутреннего напряжения: он буквально буравит зрителя и пространство перед собой[3], хотя Барлах по-прежнему избегает здесь тщательной проработки лица и использует в основном светотеневые контрасты формы и материала бронзы.
Барлах, таким образом, предпринял попытку усложненного смыслового монтажа, представлявшего зрителю социальный образ в процессе его внутреннего пробуждения к действию. Несмотря на то, что каждая из этих работ интересна по-своему, лучше рассматривать их вместе, как еще одну замкнутую смысловую группу в общем ряду русской серии. Тогда символический подтекст, более сдержанный в характеристике отдельного персонажа, начинает заявлять о себе отчетливее. Обобщение перерастает через контуры типажа и конкретность натуры и приобретает бескрайний символический масштаб.
Поневоле приходишь к парадоксальному выводу, что судьба оберегала скульптора в России, закрыв для него все другие впечатления, кроме впечатлений от удивительной русской природы и ее неповторимого человеческого материала. Непостижимым образом барлаховские слепцы и нищие, в бронзе особенно, сохранили в себе ощущение того природного окружения, в котором их воспринимал, а затем и фиксировал в зарисовках немецкий художник. В скульптуре исчез даже намек на какой-либо фон, а сами небольшие фигурки, с их гипертрофированной монументальностью, оказались уподобленными простым и тяжеловесным земным формам.
В них ощутимы космический масштаб приютившего их неласкового мира и ярость его стихий, сдавивших эти тела, припечатавших их к земле, уподобивших живую плоть степным валунам или вывороченным корневищам. Им приданы какие угодно – только не вертикальные позы: они стоят на коленях, сидят, полулежат, припадают, наконец, к земле, и в любом варианте являют собой образец исчерпывающего равновесия, основательности, завершенности. Развивая почти в каждой из них сложную концепцию равновесия, Барлах обычно обобщает основной контур фигур до ясной геометрической конфигурации, придавая ей прямоугольную, полусферическую, треугольную (чаще всего!) форму. Варианты в бронзе представляются наиболее органичными из них, если исходить из размеров и пластической концепции.
Более пристальный взгляд на решение формы в одном-двух произведениях русской серии помогает лучше представить это новое понимание мастером задач и приемов скульптурного ремесла.
«Русская нищая» 1907 года выделяется как наиболее интересная попытка символического толкования темы. Она – первый в ряду подлинных шедевров Барлаха и как пластическая удача выдерживает сравнение с самыми зрелыми из них. Замысел образа и его решение возникло сложным опосредованным путем.

На выставке Барлаха в Москве и Ленинграде в 1971 году среди графических работ экспонировался большой эскиз углем, датируемый временем, непосредственно примыкающим к русской поездке[4]. Он изображал сидящую на земле нищенку, ритмично отбивающую низкие поклоны в типичной позе со сложенными на животе руками. Ее большое тело при этом складывалось почти пополам, образуя конфигурацию острого угла. Более поздняя графическая вариация представляла уже развернутую символическую программу: Барлах нашел окончательную позу фигуры, несколько изменил положение рук и водрузил силуэтный контур нищей на классический постамент, поддерживаемый двумя обнаженными атлантами. Еще в одном этюде эта же, но на сей раз объемно трактованная фигура помещалась на плоской плите перед широкой стелой-фоном.
Художественный такт подсказал, однако, скульптору путь более простого и выразительного решения, в котором символическое уже не нуждалось в указующих намеках. Этот окончательный вариант воплощен был Барлахом в 1907 году дважды – в бронзовом и меньшем керамическом повторениях, существенно различающихся между собой. В керамическом – образ склоненной нищей воспринимался более заостренно: мастер особенно подчеркнул в нем динамику пружинистого наклона спины и в то же время четче отделил голову от основного объема, позволяя зрителю воспринимать в общем силуэте фигуры профиль лица. Декоративный момент воспринимался сильнее: сам контур фигуры выглядел отвлеченно красивым, вызывая определенный дуализм в смысловом восприятии образа. Барлах не случайно употребил однажды слово «куколки» [Barlach 1960, p. 73], вспоминая об успехе этих работ в Берлине в 1907 году.
Укрупненный примерно в полтора раза бронзовый вариант «Русской нищей» воспринимался результатом логического завершения поиска. Переломленная под острым углом фигура женщины оказалась уподоблена взведенной катапульте, и предрасположенность ее сдерживаемой энергии к обратному взрывчатому высвобождению вызывает у зрителя рефлекс физического «моторного»[5] ощущения формы. Барлахом был уловлен, таким образом, острейший кульминационный миг односекундного динамического равновесия, заключавший в себе особую драматичность внутреннего состояния. Воссоздавалась, таким образом, экспрессивнейшая адекватность напряженности образа и перед нами возникал воистину пластический крик во всей основательности его выражения.

Дрезден, Гос. музей Дворец Пильниц, инв. № 2545.
Однако общая концепция замысла становилась понятной в результате кругового обхода фигуры. Насыщенная внутренним драматизмом объемно-пространственная реальность «Русской нищей» заключала в себе и вторую скрытую закономерность – весь объем тела оказывался одновременно включенным также в процесс мощного коловращения, в результате которого он как бы скручивался по спирали и вверх[6], отчего голова фигуры оказывалась в итоге непропорционально маленькой (в соотношении с большими кистями рук, например). Масса, таким образом, наряду с пространственной активностью приобретала и способность еще большего уплотнения, внутренней кристаллизации, и этот второй ее функциональный заряд, в отличие от более внешнего первого, казался бесконечным, обогащая природу внутреннего «самочувсивия» формы.
Профессиональный почерк Барлаха и в деталях выглядел теперь безупречным. Могучие упругие формы нищей как нельзя лучше соответствовали ее активному жесту. Особенно мощными фигура и жест воспринимаются при взгляде сзади; отсюда их переживаешь как бы воспроизводящими сильное движение пловца, когда он широким движением выбрасывает руку вперед перед каждым гребком. Не нарушая ощущения жизненности формы, Барлах в случае нужды смело решается на деформацию, возводя и ее в закономерную деталь выразительного обобщения. Примечательны в этом смысле уже отмечавшаяся диспропорция некоторых объемов, а также сама, заданная программой, поза фигуры в ее боковом ракурсе, позволяющая нашему глазу замкнуть всю композицию внутри виртуального полуциркуля.
И еще одну устойчивую с этого времени особенность его манеры хотелось бы отметить про себя. Барлах демонстративно игнорирует самую непреложную, казалось бы, заповедь скульптуры: открыто воссоздавать или по крайней мере оставлять в намеке осязательность обнаженного человеческого тела. После десятилетий художественного застоя в пластике второй половины XIX века эта заповедь теперь вновь обретала тенденциозность благодаря тому огромному влиянию, которое оказали на европейскую скульптуру творческие поиски Родена, Майоля и Хильдебранда.
Принципиальность Барлаха оказалась не случайной, ведь он и до путешествия в Россию не очень охотно изображал обнаженное тело. Теперь же мастер прямо заявлял о своей претензии на более глубокое понимание специфических задач скульптуры как искусства прежде всего содержательного. Пластическая моделировка в качестве основного формообразующего средства ориентировалась у него на заранее принятую умозрительную идею образа – скорее «литературную», нежели чувственную. Другими словами, свои великолепно воздействующие на чувственные рефлексы зрителя пластические приемы Барлах рассматривал как вспомогательное средство раскрытия идеи образа, и смысл его обращения к скульптуре заключался в том, что под резцом или стекой эта идея воплощалась более наглядно и весомо, нежели средствами живописи или рисунка.
Исходя из исторического опыта скульптуры, такой метод можно было бы определить как классический, поскольку он не нарушал традиционной субординации между содержанием и формой, стремясь в то же время сохранить абсолютную гармонию их друг с другом. Скопас, Рименшнейдер, Донателло или Иван Мартос, кстати, предпочитали утверждать его сходным образом; сдержанная чувственность у них лишь подчеркивала выразительность пластических трактовок. Барлаха хочется представлять где-то рядом с такими современниками, как Бурдель, хотя тот не отказывался от работы с обнаженной натурой.

В работах же его соотечественников А. Хильдебранда и В. Лембрука разными путями, но с одинаковой обостренностью намечался решительный поворот к новой эре пластического мышления. Опыт исторической ретроспекции, предпринятый первым из них еще в 80-х годах XIX века, уже возводил форму в основное средство этого мышления при всем внешнем следовании канонам античности, барокко и классицизма. Трагизм «задумавшихся» образов Лембрука первой половины 1910-х годов [Маркин 1989, с. 64, 76, 94, 103] достигался во многом за счет выразительнейшей деформации человеческого тела, усвоенной и развитой затем (в сходном ключе поисков) в творчестве многих европейских скульпторов (М. Марини, А. Джакометти и др.). Отсюда был уже один шаг до признания формы и материала единственным содержанием пластического произведения. И характерно, что первыми этот шаг сделали молодые соотечественники Барлаха – Р. Беллинг и Х. Арп, быстро ставшие затем своего рода классиками новой манеры.
В этом интересном творческом споре, который для эпохи середины 900-х годов аккумулировал основные проблемы реализма в европейской скульптуре, предпочтение Барлахом «литературной» основы произведения оказалось окончательным [Shult 1948, S. 19]. В то же время спасти его собственный метод от профанации, в которую так легко впадают приверженцы упрощенного толкования реализма, могли только безупречная гармония идейного и формального художественного языка.
Все это в полной мере относимо не ко всем работам Барлаха 1906–1908 годов. Вторую категорию образов русской серии составили работы с более спокойной трактовкой, и они также соединяются в своеобразную галерею человеческих типов, объединенных иным, созерцательным настроением. Их также можно назвать символами внутреннего состояния человека, хотя на данном этапе в них еще не был ощутим уровень психологизма человеческих образов зрелого Барлаха 1920 – 1930-х годов. Зато они не менее интересны пластической стороной исполнения, обнаруживая все тот же прорыв интереса скульптора к объемной кубической массе. Помимо упоминавшегося «Разрезающего дыню» это «Нищенка с чашкой» (1906), «Отдыхающий степной пастух» (1907), «Сидящая женщина» (1907), «Сидящая девушка» (1908), «Лежащий мужик» (1908), «Любовная пара» (1908), опробованные в различных материалах.
Глядя на них, ощущаешь, как в Берлине постепенно успокаивался творческий порыв мастера и на смену ему приходил «домашний» экспериментальный интерес к формальной красоте пластического решения. Столь же небольшие (не больше полуметра), но такие же монументальные, эти крепко увязанные композиции, как правило, завершаются снизу округлым или квадратным «позёмом» – в строгом соответствии с одной и той же спецификой типового пластического решения. «Позём» очень напоминает верхнюю площадку рабочего скульптурного станка, и весомые фигурки действительно хочется видеть водруженными на вращающемся основании, которое позволило бы впитывать достоинства безупречной каллиграфической работы в круговом обзоре.
«Нищенка с чашкой» (керамический вариант, 1906) – второй (после «Русской нищей») по выразительности шедевр серии. Эту работу отличают глубокий портретный реализм, убедительная передача конкретного прототипа. Впервые новый для Барлаха социальный тип, выхваченный из ряда себе подобных, снимает с себя обобщенно достоверную, но все же условную маску с собственного лика. Барлах встретил естественное соединение модели-типа и модели-личности одновременно. «Я ничего не изменил из того, что видел, – констатировал он позже. – Я видел это именно таким, оно было одновременно отталкивающим, комическим и – скажу не задумываясь – возвышенным» [Schult 1960, S. 60].

Убедительным чувством собственного достоинства завораживает зрителя эта сидящая перед ним в царственной позе немолодая, обостренно некрасивая русская баба. В подчеркнутой несовместимости «контуров» социального типа с реальным воплощением человеческого образа и заключается кульминационное зерно психологической трактовки Барлаха. Грузное, разбитое годами и тяжелой жизнью тело женщины приняло привычную для него позу, в которой органично все, начиная с конструктивного каркаса целого. За ее достоинством ощущается глубина пережитого, немалый характер, не убитый годами нищеты, способность к спокойной и трезвой оценке жизненных нравственных ценностей. Нищенка эта начинает первой длинную галерею удивительных барлаховских женщин, которые «ничему не учились, но знают все» [Schult 1960, S. 230].
«Сильная личность, – писал про нее Брехт, – с твердым чувством собственного достоинства, от которой не ждешь благодарности за подаяние. Она кажется застрахованной от лицемерных уверений развращенного общества, что-де будто бы только прилежанием и терпением можно добиться чего-то. Она холодно обвиняет его в том, что ее силы не находят выхода и парализованы». И далее: «В 1906 году уже были женщины, которые объявили войну этому обществу– она к ним не принадлежит. Были также и художники, которые таких героинь воплощали (Горький создал свою Власову) – Барлах не относился к таким мастерам. Об этом, возможно, следует пожалеть, но я готов поддержать его вклад и благодарить за него» [Брехт 1965, с.248 – 253].
Пластическая трактовка этого произведения построена по иному принципу, нежели в «Русской нищей». Напряженность позы сменилась спокойствием и весомым «самочувствием» формы. Простая и ясная система опорных точек и плоскостей позволяет фигуре надежно покоиться на прочном квадратном позёме в сложной, но естественной позе. Тело, словно налито свинцовой тяжестью и эта масса плоти, сосредоточенная в верхней половине фигуры, тяжело оползая, как лава, вниз, широко растекается затем плавным круговым потоком, волнообразно завихряясь на самом спуске обратно кверху и, наконец, окончательно затухая внизу.
Это «декоративное» движение массы в своем внешнем абрисе может быть названо вопреки всем условностям прекрасным; оно, так же, как и контур «Русской нищей», способно впечатлять самостоятельно, и к нему одному вполне применимы понятия эпического, величественного. Как узловой акцент пластического раскрытия темы, оно великолепно оттеняет широту натуры и мудрое спокойствие представленного образа. Подобной тонкостью средств достигалось прочтение сложной философской темы человеческого достоинства как внутренней красоты человека, независимой от его социальной значимости.
И знаменательным парадоксом может восприниматься тот поразительный факт, что эта любопытнейшая новая ступень критического реализма родилась на материале русской действительности в творчестве иностранца, чутко уловившего обостренное, нервное состояние эпохи. Русские типы и вся их серия в толковании Барлаха стали событием в немецком искусстве второй половины 900-х годов, органично дополнив другие социально-критические явления в искусстве Германии конца 1890-х –900-х годов. Прежде всего – литографические серии Кэте Кольвиц на пролетарскую тему с конкретно обостренным критическим зарядом. На общем фоне немецкого искусства серия Барлаха могла быть уподоблена только «Ткачам» К. Кольвиц и названа равноценной удачей реализма, допускающего глубокое символическое обобщение этой тяжкой правды.
Еще более показательным выглядел пример серии Барлаха в сравнении с достижениями немецкой скульптуры в начале 900-х годов. Лишь дюссельдорфские работы Лембрука этих же лет на шахтерскую тему [Маркин 1989, с. 23, 26] могут в какой-то мере перекликаться с нею («Откатчик», «Рудничный газ», «Работа» и др.), однако мастерство юного Лембрука пока еще стояло значительно ниже, к тому же он уже начинал заметно подражать крупным мастерам, обнаруживая французскую ориентацию (Майоль, Роден, Менье) в тематике и форме. Ни Г. Кольбе, ни Э. Шарф, ни Р. Шайбе еще не успели достаточно заявить о себе в это время. Бесспорным было по-прежнему мастерство анималиста Гауля, которого сам Барлах ценил очень высоко, однако тематика его творчества выглядела все же более узкой в сравнении с темами молодого скульптора.

Бремен, Кунстхалле, инв. № 180.
Оставалось, правда, еще искусство югендстиля, по-прежнему заслонявшее в глазах публики искания серьезных мастеров. Сопоставление серии Барлаха с данной художественной продукцией может показаться натяжкой, но в аспекте идейных и тематических параллелей оно в то же время особенно интересно, если вспомнить, с чего начинал сам Барлах. В 1907 году в Берлине выставлялся И. Боссард, чья громоздкая композиция под названием «Жизнь» изумляла зрителей: причудливая мешанина из группы тел гирляндами обвивала некое подобие фонтана. На выставке Р. Маркизе (Берлин, 1906 и 1907) можно было увидеть рядом пластически беспомощную и сентиментальную жанровую сцену «Холод», натуралистичного «Фавна» и классицистическую «Саломею». Продолжала в эти годы развитие и откровенно дегуманистическая тенденция этого направления. Теми же 1906 и 1907 годами датируются известнейшее творение Г. Ледерера – монумент Бисмарка в Гамбурге. Маленьким фигуркам Барлаха с их неподдельной монументальностью принадлежала в этом сопоставлении иная миссия – возможность перехода на здоровое, жизнеспособное мышление нового немецкого искусства.
Русским периодом заканчивался для Барлаха долгий и мучительный процесс поисков индивидуальной дороги к высшему мастерству, процесс отбора всего позитивного, найденного за эти годы как в области идейно образного толкования действительности, так и в области художественной формы. «... Все это было также и во мне, – писал он Б. Пинесу через десять лет после возвращения из России, – и все это было, пожалуй, настолько же русское, насколько и немецкое, европейское, общечеловеческое. Позже я сказал себе осознанно: в жизни немцев существенное прячется за традиционной формой, но эта форма для меня не подходит. В результате я находил все, что мог мне дать внешний мир в Германии, – в деревне, на побережье, в маленьком городке» [Barlach 1969 Bd.II, S.51].
Вывод, по сути дела, обнажал творческое кредо реализма как программы; в будущем предполагалась скорее эволюция глубинного ее развития, нежели какая-либо дальнейшая трансформация. И Барлах-скульптор на всю жизнь оставался верным этому кредо, раз и навсегда исключив для себя возможность отвлеченного формотворчества в эпоху расцвета последнего. Он оставил за собою лишь право на беспредельный субъективизм образного толкования своих тем, если иметь в виду субъективизм большого художника, страстно проповедующего идеи гуманизма и пацифизма во имя реального служения им.
Большую свободу эта последующая эволюция, естественно, оставляла за философией, идейно-образным толкованием темы. Достигнутый Барлахом позже в этом направлении результат мог бы считаться пределом содержательности в искусстве. Русская серия пока лишь намечала контуры зрелого мастерства Барлаха, и даже такие заметные ее работы, как «Нищенка с чашкой», «Нищая с ребенком» или «Сидящая девушка», являли нам пример другого, более спокойного, традиционного разговора на важную тему. Приведенный выше отзыв Брехта о первой из них весьма показателен как попытка социально «доправить» представленный Барлахом интересный тип-портрет.
В дальнейшем у Барлаха можно будет не однажды проследить перефразировку собственных же образных и композиционных приемов из произведений 1906–1908 годов: «Лежащий мужик» (1908) узнается в «Отдыхающем страннике» (1910), «Нищая на корточках» (1907) в «Экстатирующей» (или «Сводне», первый вариант 1920 г.), «Сидящая женщина» (1907) в «Сидящей старухе» (1933). Убедительно прочувствованный мастером в России женский тип будет неназойливо, но с определенностью ощущаться в некоторых собирательных образах конца 1910-х – 1930-х годов: в «Зябнущей девушке» (1917), «Закутанной нищей» (или «Милосердии», 1919), «Степнячке» (1921), «Плачущей» (1923), «Мерзнущей старухе» (1937). Наконец, в самой содержательной из них, ставшей символом надежды человечества в эпоху фашистской реакции – «Годе 1937-м» (1936)
По-видимому, самым концом 1906 года датируется интересная запись в дневнике мастера, в которой процесс нового осмысления художественного метода предстает в его непосредственном зарождении. Сквозь несколько путаную и, как всегда, страстную словесную оболочку у Барлаха прорывается желание ухватить сущность материальной и духовной субстанции в природе, познать закономерность и органику их внутреннего сосуществования.

«Мир идей пластики, – писал мастер, – связан с вполне определенным представлением прочных материалов: камня, металла, дерева. Гора или растущее дерево содержат в себе целый мир чувств, который может быть извлечен и обработан. В абсолютной определенности, локализации ощущений – их богатство <…> В пластике человеческая душа находит отображение своего прообраза, подобно тому, как она и гору наделяет одушевленностью.
<…> Из характера камня и бронзы для скульптора вытекает характер передачи формы. Представление материала становится нормой созерцания, массами металла и камня измеряется мир изображаемого, контролируется свойствами, присущими камню и металлу. Мировосприятие скульптора подобно вихрю срывает с каркаса Вселенной всю красочную чувственность, любую игру случайностей, всякую чрезмерность и орнаментальную изощренность.
<…> В целом архитектоническое есть выражение тоски по истине, выявление того, что действительно можно познать, и если я здесь преувеличиваю, то это не произвол, а выражение мною поисков несомненных достоверностей.
Упрощение и монументализация – они дают мне понимание вечных идей. Кусок лица природы освобождается от своих морщин, волосков и т.д., и я пытаюсь уяснить для себя, как это, собственно, должно изначально выглядеть».
И далее следовало самое знаменательное откровение:
«Требуя зримого, мы подавляем в себе насущность созерцания. Творчество через виде́ния есть искусство божественное, искусство в высшем смысле этого слова, нежели искусство действительности, рожденное от примитивных возможностей. Способность к виде́ниям – привилегия чувственного взгляда. Разве не должно это «празднество созерцания» быть высшим таинством в сравнении с другими? Или виде́ния недействительны? Но они столь же соответствуют понятию «самоочевидного» и «правильного», как и предметная вещественность.
Самые добросовестные штудии могут ощущаться лживыми и самые смелые виде́ния – истинными.
Если художник показывает, как все вокруг мистично, – это безысходно, ибо только говорит зрителю, что все должно оцепенеть в печали. Но когда художник дает ощутить мистическое настолько отчетливо, что оно вызывает доверие, как мир близкий, он его возвышает через обыденное к бесконечному. И показывает: «Смотри, весь мир грандиозен повсюду, ибо мистическим содержанием, как правило, насыщенно все обыденное» [Schult 1960, S. 24 – 25].
Литература
- Азадовский, Чертков 1971 – Азадовский К., Чертков Л. Русские встречи Рильке// «Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи». Москва: Искусство, 1971, с. 357 – 390.
- Брехт 1965 – Бертольд Брехт. Театр в пяти томах, т. 5/1. Москва: Искусство, 1965. С. 248 – 253.
- Маркин, Бугуева 1989 – Маркин Ю.П., Ю.В. Бугуева. Вильгельм Лембрук: Скульптура. Графика. Живопись. Поэзия. Москва: Искусство, 1989. С. 23, 26.
- Barlach 1959 – Barlach, Ernst. Das dichterische Werk, Bd. II. München, 1959, pp. 242 – 247.
- Barlach 1960 – Barlach, Ernst. Ein selbsterzähltes Leben. Berlin: Henschelverlag, 1960, pp. 71-73.
- Barlach 1969 – Barlach, Ernst. Die Briefe. 1888 – 1938. Bd. I – II. München: Piper, 1969.
- Kunst und Künstler 1907 – “Kunst und Künstler”, 1907, Heft 9, p. 355.
- Scheffler 1946 – Scheffler K. Die fetten und die mageren Jahre. Leipzig-München, 1946, pp. 129 – 130.
- Schult 1948 – Schult, Friedrich. Barlach im Gespräch. Aufgezeichnet von Friedrich Schult. Leipzig: Inselverlag. 1948, pp. 9, 19
- Schult 1960 – Schult F. Ernst Barlach. Das plastische Werk. Werkverzeichnis, Bd. I. Hamburg, 1960.
- Westheim 1923 – Westheim P. Ernst Barlach// „Für und wider“. Potsdam, 1923, pp. 85.
References
- Azadovsky, K., Chertkov, L. (1971), Russian meetings with Rilke // “Rilke. Worpswede. August Rodin. Letters. Poems”, Art, Moscow, Russia.
- Brekh, Berthold (1965), Teatr v pyati tomakh, t. 5/1. Iskusstvo, Moscow, Russia, pp. 248 – 253.
- Barlach, Ernst (1959), Das dichterische Werk, Bd. II. München, pp. 242 – 247.
- Barlach, Ernst (1960), Ein selbsterzähltes Leben. Berlin: Henschelverlag, pp. 71-73.
- Barlach, Ernst (1969), Die Briefe. 1888 – 1938. Bd. I – II. München: Piper.
- Kunst und Künstler (1907), “Kunst und Künstler” (1907), Heft 9, p. 355.
- Markin, Yu., Bugueva, Yu. (1989), Wilhelm Lehmbruck: Sculpture. Graphics. Painting. Poetry. Art, Moscow, Russia, pp. 23, 26.
- Scheffler, K (1946) Die fetten und die mageren Jahre. Leipzig-München, pp. 129 – 130.
- Schult, Friedrich (1948), Barlach im Gespräch. Aufgezeichnet von Friedrich Schult. Leipzig: Inselverlag, pp. 9, 19.
- Schult, F (1960), Ernst Barlach. Das plastische Werk. Werkverzeichnis, Bd. I. Hamburg,
- Westheim, P (1923), Ernst Barlach // „Für und wider“. Potsdam, pp. 85.
[1] Если не считать эпизодического внимания к И.С. Тургеневу (роман «Дым») в 1891 г.
[2] Эта литография почти без изменений воспроизводила рисованный эскиз «Русский ландшафт с лежащими крестьянами», выполненный углем летом 1906 г. в России.
@ Иллюстрации предоставлены автором.
[3] По-видимому, скульптор и здесь имел прототипом слепую модель из России. На выставке 1908 года в Берлине произведение выставлялось под названием «Слепая с ребенком».
[4] Ее каталог: «Эрнст Барлах. Скульптура. Графика», с вступ. текстом проф. А.А. Сидорова. М.: «Советский художник», 1970. Размеры этого рисунка 44 х 58 см., в каталоге он не был воспроизведен.
[5] Выражение А. Майоля в приложении к внутренне напряженной пластической форме.
[6] Это особенно наглядно при обзоре фигуры спереди или в левом трехчетвертном ракурсе.
Авторы статьи
Сведения об авторе
Маркин Юрий Петрович, доктор искусствоведения, почетный академик Российской Академии Художеств, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств, г. Москва (Россия); germar@mail.ru
About author
Yuri P. Markin, Dr. of Sci. (Art history), Honorary Academician of the Russian Academy of Arts, leading researcher at the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, Moscow (Russia); Germar@mail.ru