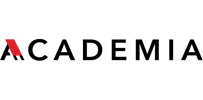Графические традиции «Мира искусства» в раннем творчестве В.М. Конашевича
Дмитрий В. Фомин
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; Российская государственная библиотека, Москва, Россия, dfomin13@yandex.ru
Аннотация.
Задача статьи – конкретизировать и несколько скорректировать, казалось бы, бесспорное утверждение о приверженности одного из самых плодовитых отечественных художников-иллюстраторов В.М. Конашевича к графической традиции «Мира искусства». Влияние мастеров этого круга особенно наглядно проявилось в раннем творчестве Конашевича (1917–1922). Однако и в этот период художник не был эпигоном корифеев, использовал открытия старших товарищей для решения задач, лежавших вне круга их интересов, искал собственную стилистику. Опыты начинающего иллюстратора сопоставляются в статье с произведениями мэтров прославленного объединения, анализируются их высказывания о работах младшего коллеги, а также суждения Конашевича об эстетике «Мира искусства» и о собственном творческом пути.
Ключевые слова:
В.М. Конашевич, «Мир искусства», графика, искусство книги, иллюстрация, обложка
Для цитирования:
Фомин Д.В. Графические традиции «Мира искусства» в раннем творчестве В.М. Конашевича // Academia. 2022. № 1. С. 71–84. DOI: 10.37953/2079-0341-2022-1-1-71-84
Graphic traditions of the “World of art” in the early work of V.M. Konashevich
Dmitry V. Fomin
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Russian state library, Moscow, Russiа, dfomin13@yandex.ru
Abstract.
The purpose of the article is to concretize and somewhat correct the seemingly indisputable statement about the commitment of one of the most prolific Russian illustrators, V.M. Konashevich, to the graphic tradition of the “World of Art”. The influence of the masters of this circle was particularly evident in the early work of Konashevich (1917-1922). However, even in this period, the artist was not the epigone of the luminaries, he used the discoveries of his older comrades to solve problems that lay outside the circle of their interests, he was looking for his own style. The article compares the experiences of the novice illustrator with the works of the masters of the famous association, analyzes their statements about the works of a younger colleague, as well as Konashevich's opinions about the aesthetics of the “World of Art” and about his own creative path.
Keywords:
Konashevich Vladimir, “World of Art”, graphics, book art, illustration, cover
For citation:
Fomin, D.V. (2022), “Graphic traditions of the ‘World of art’ in the early work of V.M. Konashevich”, Academia, 2022, no 1, pp. 71–84. DOI: 10.37953/2079-0341-2022-1-1-71-84
Творчество выдающегося отечественного графика, классика книжной иллюстрации Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963) не обойдено вниманием исследователей, однако не все аспекты его разносторонней деятельности, не все этапы его биографии изучены одинаково глубоко и подробно (ил. 1). В частности, достаточно редко внимание искусствоведов привлекает самый ранний период работы художника в качестве иллюстратора и оформителя книг – начиная с создания дебютного цикла «Азбука в рисунках» (1917–1918) и заканчивая примерно 1923 г., когда полностью сформировалась оригинальная, легко узнаваемая индивидуальная графическая манера Конашевича. Безусловно, Владимир Михайлович испытывал тогда сильное влияние более опытных и искушенных мастеров, и прежде всего – корифеев «Мира искусства». Однако его стилистическая зависимость от творчества старших коллег подчас преувеличивается, трактуется слишком буквально и прямолинейно; данный вопрос нуждается в существенном уточнении. Попробуем разобраться в том, как складывались взаимоотношения молодого художника с прославленным объединением, как преломлялись в его исканиях тех лет «мирискуснические» графические традиции.

В рассматриваемый период Конашевич исполнил множество обложек и несколько значительных иллюстрационных циклов: прежде всего – рисунки к «Помещику» и «Первой любви» И.С. Тургенева, к сборнику стихотворений А.А. Фета, к нескольким детским книгам для издательства З.И. Гржебина. Несомненно, в этих работах можно найти примеры подражания едва ли не всем известным графикам «Мира искусства». Например, в изображениях цветов и фруктов, в орнаментальных экспериментах сказывается сильное влияние С.В. Чехонина. Обложка сборника стихов Ф.К. Сологуба «Фимиамы» (1920) достойно продолжает традицию оформления лучших символистских изданий начала века, вписывается в нее совершенно органично, восходит к К.А. Сомову, Е.Е. Лансере и Л.С. Баксту (ил. 2), а рисунки к рассказам К.А. Федина (1921) больше напоминают графику Б.М. Кустодиева. В серийной обложке «Детская театральная библиотека» (1922) варьируется столь любимый А.Н. Бенуа мотив народного балагана, театра Петрушки. В некоторых сценах из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» узнаются интонации И.Я. Билибина. Нарядная декоративность в духе Д.И. Митрохина встречается у раннего Конашевича значительно чаще, чем торжественная театральность А.Я. Головина; редкий рисунок обходится без «колючего» штриха М.В. Добужинского. Иллюстрируя сказки Ш. Перро, художник, подобно многим «мирискусникам», иронизирует над простыми нравами и сложными церемониалами, пышными нарядами и наивным рационализмом галантного века.
Однако все обстоит не так просто, как может показаться на первый взгляд: хорошо известные ингредиенты смешиваются по новому рецепту, соединяются в неожиданных пропорциях, легко узнаваемые визуальные цитаты, попадая в непривычный контекст, звучат совсем иначе, чем в первоисточнике. Ибо даже в подражательный, ученический период Конашевич не был бездумным копиистом, эпигоном движения, не принадлежал к довольно многочисленной группе молодых графиков, которые лишь тиражировали, нещадно эксплуатировали и в конечном счете обесценивали открытия «Мира искусства», не добавляя к ним ничего нового.

Стилистическая близость, да и просто формальная принадлежность Конашевича к «Миру искусства» вроде бы не вызывает ни малейших сомнений, является очевидным фактом, общим местом большинства публикаций о творчестве художника. Причем упоминания о его причастности к деятельности группы в устах большинства советских критиков звучали отнюдь не комплиментарно. Как вспоминает Ю.А. Молок, даже в конце жизни мастера «упорно продолжали по традиции причислять к “Миру искусства”, обвиняя в смертных грехах стилизации…»[1].
Сохранилось официальное письмо художника от 13 ноября 1922 г. на имя секретаря объединения Ф.Ф. Нотгафта: «В ответ на Ваше сообщение о моем избрании в действительные члены общества “Мир Искусства” с некоторым опозданием вследствие своей болезни довожу до Вашего сведения о своем согласии вступить в число членов общества и прошу передать мою глубокую признательность общему собранию, меня избравшему»[2]. Документально зафиксировано также участие начинающего иллюстратора в немногочисленных собраниях группы, проходивших на квартире Нотгафта, в выставке «Мира искусства», состоявшейся в 1922 г. в Аничковом дворце. В кратком обзоре этой экспозиции художник В.П. Белкин упомянул и Конашевича, «от графики и иллюстраций которого в совершенном опьянении и восторге все книгоиздательства Петрограда, и поделом, так он все делает хорошо и сладостно» [Белкин 1922, с. 25].
Известны и хвалебные отзывы мэтров о работах молодого коллеги. К.А. Сомов в своем дневнике назвал рисунки к азбуке и сказкам отличными, а иллюстрации к И.С. Тургеневу, А.А. Фету и Ф.М. Достоевскому прелестными. В.В. Воинов отмечал, что некоторые листы из фетовского цикла «изумительны по мастерству и блеску и остроумной композиции»[3]. По свидетельствам мемуаристов, детские книги с рисунками начинающего иллюстратора нравились Б.М. Кустодиеву (ил. 3). Д.И. Митрохин, который позднее станет одним из ближайших друзей Конашевича, отнесся к его дебюту доброжелательно, но достаточно критично; в 1919 г. он писал П.Д. Эттингеру по поводу «Азбуки в рисунках»: «...рисунки говорят о талантливости автора, и все же хотелось бы побольше личного в почерке: слишком – школа Чехонина» [Кн. о Митрохине 1986, с. 119]. Наконец, А.Н. Бенуа не просто внимательно следил за успехами художника, но и по мере возможностей покровительствовал ему. В издательстве З.И. Гржебина Конашевич был «что называется, присяжным художником... Здесь он, по-видимому с благословения А.Н. Бенуа… (“без его одобрения не издавалось никаких книг с иллюстрациями”), выступил… как иллюстратор работами, которые составили ему имя в те годы» [Молок 1969, с. 27]. В переписке с издателем Бенуа высоко оценил графическое оформление сказки «Мальчик с пальчик», которую он сам собирался иллюстрировать.

А через много лет, в 1958 г., когда в Русском музее состоялась персональная выставка Конашевича, художник послал ее каталог идеологу «Мира искусства» и получил из Парижа полное комплиментов и благодарностей ответное письмо: «С годами… я в значительной мере утратил свою прежнюю живость, но впечатлительность осталась прежняя и, когда мне попадаются вещи своеобразные и особенно талантливые, душа моя по-прежнему трепещет и я ликую. Это случилось и на сей раз при просматривании Вашего каталога, я получил большое редкое удовольствие <…>. Вы все же “чистейший европеец” и хорошо, что это так…» [Бенуа 1968, с. 679]. Письмо заканчивается коротким списком детских книг с рисунками адресата, которыми Александр Николаевич «имеет удовольствие (и очень большое) обладать».
О том, что мэтры «Мира искусства» высоко ценили младшего коллегу, считали его человеком своего круга, косвенно свидетельствует и тот факт, что порой они переадресовывали ему издательские заказы, которые по каким-то причинам не хотели или не могли выполнить сами. Приведем любопытную запись из дневника К.А. Сомова от 2 февраля 1922 г.: «Приходил Борис Львов[ич] Модзалевский предлагать илл[юстрировать] маленькую поэму В.Л. Пушкина “Опасный сосед”, которую он тут же мне прочел. Очень милая забавная полуэротика. Но я все же отказался, рекомендовав ему пригл[асить] для э[той] работы Конашевича» [Сомов 2017, с. 612].
«Опасного соседа» Владимир Михайлович иллюстрировать не стал (а может быть, Модзалевский и не обращался к нему с этим предложением), зато взялся за другую работу, также доставшуюся ему «по наследству»: оформил один из выпусков «Аттических сказок» известного филолога, знатока античности Ф.Ф. Зелинского, взяв за образец краснофигурную вазопись (ил. 4) Любопытна предыстория получения этого заказа, зафиксированная в дневнике В.В. Воинова (запись от 15 февраля 1922 г.): «К Федору Федоровичу [Нотгафту] заходил представитель издательства Сабашниковых, чтобы узнать, где ему можно видеть В.М. Конашевича, которому издательство хочет поручить дальнейшее иллюстрирование греческих сказок <…>, так неудачно изданных в первых своих выпусках (безвкусие полное). Сначала издательство хотело просить об этом А.П. Остроумову-Лебедеву, но она их направила к Конашевичу. Ф.Ф. спросил: ну а что, если Конашевич не согласится? – Тот не знает. На вопрос Ф.Ф., а почему он не обратился к Добужинскому – он ответил, что “боится” его: он “не график”(??) и очень “смел”(?). Д.И. Митрохина он тоже “боится” (?).
Бывают же курьезы!»[4]

«Каменная нива. (Аттические сказки)». 1922. Б., тушь.
Щедро расставленные автором дневника вопросительные знаки подчеркивают, насколько далеки от истины были представления о художниках, укоренившиеся в головах некоторых издателей. Этот случай можно назвать не только курьезным, но и весьма типичным. Довольно часто издатели и редакторы, наслышанные о непростых характерах и непредсказуемой творческой смелости корифеев «Мира искусства», предпочитали иметь дело не с ними, а с их более покладистыми и сговорчивыми последователями. К их кругу порой причисляли и Конашевича: с одной стороны, его фамилия уже достаточно высоко котировалась, с другой – он все-таки воспринимается как художник «второго ряда», ему можно было поручить работу, не заинтересовавшую более именитых мастеров. Петербургская книжная графика 1920-х гг. развивалась под знаком «Мира искусства», однако главным образом – силами художников младшего поколения. Они работали много и вполне профессионально, но по сравнению с основоположниками движения им явно недоставало общей культуры, творческой свободы, оригинальности, самостоятельности. Истинные же «мирискусники» оказались, по выражению Э.Ф. Голлербаха, «в положении “мавров, сделавших свое дело”: они “могут уйти” или, мягче говоря, “почить на лаврах”» [Совр. обложка 1927, с. 11].
Единственный эпизод, способный омрачить идиллическую картину личных и творческих взаимоотношений молодого художника со старшими товарищами по объединению, описан в весьма далеких от беспристрастности и фактографической точности мемуарах В.А. Милашевского и связан с именем М.В. Добужинского. Посетив выставку Конашевича, проходившую в 1921 г. в Доме искусств, мэтр якобы воскликнул: «Какая подлость! Какое нахальство – так у меня на глазах вульгаризировать мой стиль» [Милашевский 2019, с. 169]. Скорее всего, мемуарист вкладывает в уста знаменитого художника собственное патологически неприязненное отношение к творчеству собрата по искусству, откровенно выраженное в таком, например, пассаже: «До чего все искусственно, форма нарочитая, придуманная, к тому же… выкраденная у Добужинского, но у Мстислава Валериановича все носило характер изящной... светской шутки – у Конашевича обернулось тупым лакейским анекдотом…
И до чего однообразно, как тупо повторяет он в продолжение стольких лет нелепый, плохо выдуманный прием!» [Милашевский 2019, с. 169]. Увы, эти строки продиктованы прежде всего элементарной завистью, которую желчный Милашевский испытывал практически ко всем более известным, не обойденным вниманием критиков и искусствоведов коллегам, в том числе и к своим соратникам по группе «13», так что вряд ли стоит всерьез полемизировать с приведенным суждением. Что же касается Добужинского, то если у него и были претензии к молодому художнику, вряд ли выдающийся график и сценограф сомневался в таланте, вкусе, профессионализме своего последователя, иначе он наверняка попытался бы воспрепятствовать его участию в экспозиционных и издательских проектах объединения. Вероятно, о сходстве и отличиях графических манер двух рисовальщиков, о степени зависимости одного от другого проще всего было бы рассуждать, сравнивая их интерпретации одного и того же литературного произведения – «Белых ночей» Ф.М. Достоевского. Однако рисунки Конашевича, навеянные повестью классика, не были опубликованы, да скорее всего и не сохранились, а отзывы тех, кому довелось их увидеть, весьма противоречивы.
Судя по высказываниям самого Конашевича, его отношение к «Миру искусства» и его традициям, и особенно к собственному увлечению эстетикой этого объединения с годами заметно менялось. Видимо, мастера совсем не радовала перспектива пожизненно числиться последним представителем славного, но давно сошедшего со сцены, ставшего достоянием истории творческого союза. Не случайно в автобиографии 1927 г. он пытается несколько дистанцироваться от старших товарищей, подчеркивает, что круг художников, оказавших на него сильное воздействие, гораздо шире, чем принято думать: «Относительно влияний других мастеров и течений – что могу сам о себе сказать? Конечно, их я не избег. Начиная свою работу, как график, я и не искал новых путей, т.к. к самой графике серьезно не относился. Если что и выходило своеобразно, то случайно. Потом же я кое-что изобрел. Все эти приемы – “решетка” или мелкие, как бы насыпанные обрезки линий – все попытки ввести тон в штриховой рисунок. Эти приемы разошлись по нашему небольшому свету и были подхвачены даже большими, старшими… мастерами.
Мне следовало бы назвать нескольких своих “кумиров”. Но я, право, в затруднении: какая-то, я бы сказал, – “досадная”, терпимость заставляет меня находить некоторые “прелести” даже в дурных вещах заведомо безвкусных художников. Вот почему, считаясь в Училище Живописи “левым”, я не примкнул ни к одной из левых групп: надо было исходить из “отрицаний”. Тот же мой “оппортунизм” причина тому, что я, пожалуй, без достаточного основания причислен к группе “Мир Искусства”»[5].
А уже в конце жизни, в 1957 г., подводя итоги пройденного пути, мастер напишет искусствоведу П.Е. Корнилову: «Конечно, что-то есть, о чем-то можно говорить, но это совсем не то, что могло быть. У меня был длинный инкубационный период, когда я надолго задержался в кругу влияний “Мира искусства”. Я не считаю это большим несчастьем: меня влекла культура мирискусников, к которой я приобщился. Но я мог бы раньше эмансипироваться и стать на свои рельсы» [Конашевич 1968, с. 428]. По мнению художника, понемногу «находить себя» он начал лишь к концу 1920-х гг.; затянувшийся этап подражательства сыграл в его творческой судьбе почти столь же негативную роль, как «антиформалистическая» кампания середины 1930-х.
Вряд ли можно согласиться с этой категоричной самооценкой. Во-первых, вполне самостоятельный творческий почерк сформировался у мастера уже примерно к 1923–1924 гг., а не к концу десятилетия. «Интересно проследить, как в течение буквально двух-трех лет он нашел себя и стал таким, каким мы его знали позже» [Конашевич 1968, с. 455], – справедливо отмечает график Л.П. Зусман. Во-вторых, элемент подражательности, по-видимому, неизбежный для любого начинающего художника, не умаляет серьезных достоинств ранних работ Конашевича. Учась у более опытных коллег, «примеряя» их излюбленные приемы и интонации, он в то же время полемизировал с ними, в частности, пытался, по выражению Ю.А. Молока, «разомкнуть линейную скованность» чисто плоскостного рисунка, «упорно не желал смириться с каллиграфией орнаментальной формы» [Молок 1969, с. 32], пытался иначе, по-своему строить композицию и декорировать страницу.
Иллюстратор заимствовал у прославленных коллег только то, что было органично для его собственного графического мира, что могло пригодиться для выработки своего почерка, к тому же не просто копировал, а переосмысливал их открытия на свой лад. Восхищаясь эстетикой «Мира искусства» он, как человек другого поколения, трезво осознавал ее историческую исчерпанность, необходимость поиска новых форм. Неслучайно Я.А. Тугендхольд причислял Конашевича к плеяде новаторов, которая «постепенно чисто линейному декоративизму или мягкой “акварельной” интимности мирискусников... противопоставила иной язык – энергичной выразительной линии, сочного пятна и динамической конструкции» [Тугендхольд 1987, с. 251]. По поводу своих поздних натюрмортов и пейзажей, нарисованных тушью по влажной бумаге, мастер говорил, что он «только использовал китайские материалы и их технику для совсем не китайских целей» [Бенуа 1968, с. 680]. Вероятно, нечто подобное можно сказать и о многочисленных «мирискуснических» реминисценциях в его раннем творчестве.

Пожалуй, уже в самой первой работе художника в области искусства книги присутствует элемент полемики с мэтрами; их излюбленные приемы и образы узнаются, но интерпретируются несколько иначе; их лексика по-новому интонируется. Если сравнить «Азбуку в рисунках» с «Азбукой в картинах» А.Н. Бенуа (1904) или «Украинской азбуки» Г.И. Нарбута (1917–1918), станут отчетливо видны не только черты сходства, но и принципиально важные различия трех циклов. Книга Бенуа насквозь театральна, населена множеством колоритных персонажей, насыщена литературными и историческими аллюзиями, личными воспоминаниями, в ней преобладают многофигурные «сложносочиненные» сцены, фантастические и гротескные мотивы. Конашевич ведет повествование камерное, предельно простое и внятное, не претендующее на масштабность. Здесь почти нет людей, автор отдает флоре и фауне явное предпочтение перед социумом. Книга представляет собой серию натюрмортов и анималистических зарисовок, «парадных портретов» вещей, растений и животных (ил. 5).
Изысканная красота композиций Нарбута омрачается предчувствием неминуемой катастрофы, зловещими предзнаменованиями, мастер чувствует обреченность столь любимого им мира старой усадьбы. Конашевич невозмутимо спокоен, а иногда и весел, воспетый им мир абсолютно гармоничен, бесконфликтен и самодостаточен. Букву «Н» в обоих циклах персонифицирует негр. Но у Нарбута этот образ трактуется как жуткое наваждение, роковой «черный человек», современная парка, огромными ножницами безжалостно обрезающая нити судьбы. А у Конашевича забавный чернокожий юноша в набедренной повязке и короне из страусовых перьев, отплясывающий некий ритуальный танец – счастливое, беззаботное дитя природы, самый что ни на есть «естественный человек», излучающий веселость и жизнерадостность.
«Мирискусников», выступавших в роли оформителей и иллюстраторов книг, часто и порой справедливо обвиняли в том, что изящество декоративного решения страницы занимало их в куда большей степени, чем глубина и точность интерпретации литературного произведения. Этот упрек трудно переадресовать раннему Конашевичу, сколь бы подражательным ни был его графический язык. Например, оформляя в 1920 г. «Сказку о рыбаке и рыбке», он в самом макете книги пытается не только передать смысловые и стилистические особенности пушкинского текста, но и выявить принцип его построения, разобраться в соотношении отдельных частей, подчеркнуть повторяемость сходных ситуаций в разных эмоциональных регистрах. Для этого понадобились не подробные страничные композиции, а более лаконичные изобразительные комментарии к сказке.
Каждому повороту сюжета предшествует пейзажная заставка: по мере того, как растут аппетиты и амбиции старухи, небо и море становятся все мрачнее и беспокойнее, предупреждая «дурачину и простофилю», а заодно и читателя о приближающейся беде. Осуществленные желания ненасытной героини требуют все более масштабного графического воплощения: изба со светелкой и тесовыми воротами занимает половину страницы, крыльцо высокого терема – две трети листа. А единственная в книге полосная иллюстрация отдана, конечно же, кульминационной сцене: увенчанная короной безобразная фурия пирует в царском дворце в окружении воеводы, виночерпия, шута, юных стражников (ил. 6). Финал сказки, где «проклятая баба» вновь оказывается у разбитого корыта, вовсе не кажется Конашевичу катастрофичным. Скорее наоборот, этот эпизод трактуется художником как долгожданное избавление от зловещего морока, восстановление привычного, естественного хода вещей.

1920. Б., акв., тушь.
Предлагая оригинальное прочтение сюжета, художник ведет себя чрезвычайно деликатно по отношению к автору и читателю. Деликатность эта выражается и в скромном размере иллюстраций, и в приглушенной цветовой гамме, и в том, как изящно, ненавязчиво тонкие линии, проведенные тушью, корректируют и уточняют акварельный рисунок. К сожалению, подобная стилистика оказалась исключительно сложной для детского восприятия. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания детсадовцев и младших школьников, тщательно зафиксированные и обобщенные педагогами: «Не разбираясь в стилизаторских затеях художника, не узнавая изображенного, дети не могут понять содержания иллюстраций, не могут охватить их в целом. Внимание их устремляется на отдельные детали. Создается своеобразное отношение к рисункам, как к загадочным картинкам, в которых надо расшифровать изображаемое.
Когда дети не узнанную ими на обложке корону (они принимали ее за фонарь, за колокол, неуверенно высказывалось предположение, что это шапка) видят на голове старухи, эта “разгадка” вызывает большое оживление» [Девишев 1936, с. 35].
Попытки «расшифровать» мелкие детали заставок порождали гипотезы самые фантастические: «Так, рассматривая первый рисунок, дети принимают сидящего на корточках старика за петуха. <…> Другие дошколята прижатые к бокам ноги старика принимают за толстый живот – называют деда “толстый дяденька”, “буржуй”. <…> Даже необычную разноцветную окраску рыбки... объясняют тем, что это “буржуйская летучая рыба”. Легко представить себе, как искажается смысл пушкинской сказки при таком восприятии иллюстраций» [Девишев 1936, с. 35].
Зрительный ряд изящного библиофильского издания повести И.С. Тургенева «Первая любовь», увидевшего свет в 1923 г., также тщательно продуман и четко выстроен; страничные и полустраничные цветные иллюстрации чередуются с небольшими монохромными композициями, выполненными тушью и черной акварелью с размывкой. Ритмика их расположения в пространстве книги созвучна темпу развития сюжета; ни один важный эпизод не остается без внимания художника. Иллюстратор явно симпатизирует главному герою, и в то же время не упускает случая подчеркнуть его наивность, неловкость, инфантильность. В сущности, это – восторженный, впечатлительный ребенок, случайно попавший в компанию взрослых, но еще не усвоивший «правил игры», принятых в этом кругу. Оставаясь наедине с возлюбленной, он робеет, теряется, а, предоставленный самому себе, может часами смотреть в окно и предаваться сладостным, несбыточным мечтам.
Важную роль в изобразительном повествовании играет запущенный сад, отделяющий юношу от предмета его страсти. Конечно, состояние природы не всегда впрямую выражает эмоции героя; пейзаж может оттенять его треволнения своей безмятежностью, контрастировать с его настроением. Но в любом случае заросли малахитовой травы, легкие светло-серые облака, гибкие стволы берез и сосен, разлапистые еловые ветки – не просто инертный фон, на котором разворачиваются события повести, в своей совокупности эти детали передают атмосферу любовного томления, пожалуй, ярче и нагляднее, чем пластика человеческих фигур. В рисунках можно усмотреть влияние М.В. Добужинского и отчасти Б.Д. Григорьева, но автор уже очень близок к выработке оригинальной, легко узнаваемой манеры (ил. 7).

И.С. Тургенева «Первая любовь». 1921. Б., акв., тушь.
В иллюстрациях к сборнику лирики А.А. Фета художник использует стилистику и отдельные приемы мирискуснической графики для решения исключительно сложной и новаторской, дерзкой задачи, находившейся, в сущности, вне сферы интересов мастеров этого объединения. И критики 1920-х гг., и современные искусствоведы почти единогласно признают эту работу «наивысшим достижением Конашевича, быть может, лучшим, что было им создано в книге на протяжении всего его долгого и яркого творчества» [Чегодаева 2002, с. 306–307]. Рисунки к Фету подвели итог раннему этапу пластических исканий автора, блестяще продемонстрировали лирическую сторону его дарования, виртуозное владение богатым арсеналом формальных приемов. Однако повышенное внимание современников к этой работе объясняется не столько ее художественными достоинствами, сколько неожиданным выбором литературной первоосновы, непривычным характером взаимоотношений текста и изображения. Хотя в наследии мастера есть произведения более совершенные, именно фетовскому циклу суждено было сыграть особую роль в судьбе отечественной книжной графики, расширить ее границы, изменить традиционные представления о ее возможностях.
Для того, чтобы в полной мере оценить новаторство Конашевича, стоит вспомнить, что русские иллюстраторы XIX в., да и начала XX столетия почти не знали разницы между лирической поэзией и бытописательской прозой, трактовали их одинаково подробно и буквально. Если отдельные попытки графически выразить специфику поэтического текста и предпринимались, то были весьма неуклюжими и невразумительными. На этом фоне особенно смелой выглядит идея молодого художника перевести в зрительный ряд произведения, казалось бы, в принципе не поддающиеся иллюстрированию. Критик и переводчик В.П. Боткин отмечал в свое время, что шедевры фетовской лирики «...заключают в себе иногда такие тонкие... оттенки чувства, что нет возможности уловить их в определенных отчетливых чертах…» [Рус. эстетика 1982, с. 482]. Развивая свою мысль, Боткин так охарактеризовал одну из главных особенностей дарования поэта: «В самых обыденных явлениях природы он умеет подмечать тончайшие мимолетные оттенки, эфирные полутоны, недоступные для живописи и которые может воспроизводить одна только поэзия слова – и никакая другая» [Рус. эстетика 1982, с. 490].
Неизвестно, были ли эти высказывания знакомы Конашевичу. Но создается впечатление, что он задался целью доказать обратное и преуспел в своем вроде бы совершенно безнадежном начинании, сделал невозможное. Итогом рискованного эксперимента стала сюита, по мнению Э.Ф. Голлербаха, «если не вполне адекватная лирике Фета, то... очень к ней близкая и удивительно тонко передающая фетовскую легкость и озаренность, – “шепот, робкое дыханье” его стихов»[6].
Цикл этот, возможно, более интересен по замыслу, нежели по воплощению. Композиции, его составившие, довольно неравноценны, что отмечалось даже самыми благодарными зрителями. Например, П.Д. Эттингер писал в июле 1923 г. Д.И. Митрохину: «Любопытно, как отнесетесь к Фету в интерпретации Конашевича, которого, помнится, Вы недолюбливали. Мне эти рисунки его очень нравятся, и он в них нашел что-то новое и свое. Конечно, два “подноса” портят ценность книжки» [Кн. о Митрохине 1986, с. 284]. Действительно, типичные для творчества художника этого периода орнаментальные рамки с закругленными краями, оттененные перекрестной, «решетчатой» штриховкой, хотя и имеют архитектурное происхождение, придают титульному листу и нескольким иллюстрациям явное сходство с подносами, вызывают совершенно неуместные в данном случае «ресторанные» ассоциации. Еще менее удачны вычурные, «очень уж нарядные арабески», а также попытки иллюстратора портретировать лирических героинь, придавать им вполне определенные черты.
Гораздо более выразительны и созвучны первоисточнику как раз те листы, где черты эти дробятся, расплываются, затеняются, ускользают от зрителя. В лучших композициях цикла тактичный художник отнюдь не стремится к созданию «полнокровных» типажей, ограничивается легкими намеками. Обозначая абрис фигуры, он может внезапно оборвать тонкую линию, наметить на том же листе второй, третий варианты и, не удовлетворившись ни одним из них, признать свое поражение. Но поражение оборачивается победой, поскольку неуловимость, эфемерность, изменчивость лирического образа – и есть главная тема книги.
Впрочем, и там, где люди, предметы, ландшафты изображены достаточно четко, их осязаемость обманчива; вполне вероятно, что показанные читателю картины – «только сон мимолетный». «При всей своей жизненной натуральности... они кажутся чем-то “сверхреальным”, ...“потусторонним”, зазеркальным. Штрихи, контуры, точки, пятна краски словно бы не накладываются сверху на бумагу, но проступают изнутри, как бы проявляются, но не до конца; материализуются, но не полностью, оставаясь... скрытыми от зрителя, угадываемыми, ощущаемыми...» [Чегодаева 2002, с. 307]. Даже неискушенному зрителю становится ясно: все эти фигуры, пейзажи и интерьеры нужны художнику главным образом для того, чтобы направить наши эмоции, ассоциации, воспоминания в определенное русло. В этой системе координат интонация подчиняет себе содержание, изображенное на листе не столь важно, как недосказанное. «Линиям Конашевича присуща особая, почти пружинная упругость, они заряжены напряжением и едва ли не впервые поэтические образы нашли в этой небольшой книжке не только изобразительное, но и ритмическое соответствие» [Герчук 2008, с. 646] (ил. 8).

1921. Б., черн. акв., тушь.
Банальность и бесконфликтность «сюжетов» восполняются энергетикой внезапных наплывов и затемнений тона, сложной драматургией взаимодействия гибких контурных линий и полупрозрачных разводов акварели, мелких беглых штрихов, точек, едва заметных касаний пера. «Сама манера рисунков, их будто случайная фактура, ...вся эта кажущаяся недоговоренность формы и оставляет место для раздумий, рождает ассоциации, отвечает самому строю лирики Фета...» [Молок 1969, с. 29]. Лирический герой незримо присутствует в каждой композиции: его восторгом или томительным ожиданием, мечтательностью или тревогой окрашиваются неброские сельские ландшафты, его глазами увидены занесенные снегом деревья, пустынные аллеи, подступающий прямо к усадьбе лес. Но если бы художник не привнес в книгу собственные наблюдения, настроения, переживания, его сюита едва ли вызвала бы живой отклик зрителей, оказалась бы искусной, но холодной и бездушной стилизацией.
Таким образом, при всех досадных просчетах, Конашевич не просто создал очередной замечательный цикл, но отвоевал для изобразительного искусства новую область, блестяще доказал, что даже самые тонкие и сложные образцы лирической поэзии поддаются иллюстрированию, что их изобразительная трактовка может быть бережной и тактичной, созвучной духу и букве первоисточника.
У большинства советских критиков название «Мир искусства» неизменно ассоциировалось с чем-то бесконечно старомодным, с рафинированным эстетством, с «археологией, стилизацией и ретроспективизмом». Ни одно из этих определений совершенно не подходит ни к творчеству Конашевича, ни к исканиям его более искушенных коллег; ведь некоторые члены объединения, и прежде всего – М.В. Добужинский, С.В. Чехонин, Д.И. Митрохин в послереволюционный период стали работать совершенно по-новому, значительно расширился круг доступных им тем, жанров, выразительных средств. Конашевич довольно быстро усвоил их уроки и пошел своим путем, переплавил многочисленные заимствования в индивидуальную, абсолютно самобытную графическую манеру.
Если в последующие годы он и продолжал оставаться «мирискусником», то только в том смысле, что его работам всегда были свойственны высокая культура и артистизм исполнения, ярко выраженное декоративное начало, пристрастие к историческим аллюзиям, несколько отстраненно-ироничное отношение к изображаемым героям и ситуациям, виртуозное умение «“играть”... цветом, ...организовывать страницу, подчинять ее строго-выверенному ритму, делая лист бумаги поистине “драгоценным”» [Чегодаева 2002, с. 346].
Литература
1. Белкин 1922 – Белкин В. Петербургские письма. Выставка «Мир искусства» // Новая русская книга. 1922. № 7. С. 23–25.
2. Бенуа 1968 – Александр Бенуа размышляет...: [Статьи, письма, высказывания] / подгот. изд., вступ. статья и коммент. И.С. Зильберштейна и А.Н. Савинова. М., [1968].
3. Герчук 2008 – Герчук Ю.Я. Русское книжное искусство на переломе времен (1918–1923) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2008. № 22. С. 643–657.
4. Девишев 1936 – Девишев А. «Сказка о рыбаке и рыбке» В. Конашевича // Детская литература. 1936. № 6. С. 35–40.
5. Кн. о Митрохине 1986 – Книга о Митрохине: Статьи. Письма. Воспоминания: сб. / сост. Л.В. Чага. Л., 1986.
6. Конашевич 1968 – Конашевич В.М. О себе и своем деле: Воспоминания. Статьи. Письма. / сост., подготовка текста и примеч. Ю.А. Молока. М., 1968.
7. Милашевский 2019 – Милашевский В.А. Первый из группы «13»: Дневники. Размышления об искусстве: материалы к биографии художника. М., 2019.
8. Молок 1969 – Молок Ю.А. Владимир Михайлович Конашевич. Л., 1969.
9. Рус. эстетика 1982 – Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века: [cб.] / [сост., вступ. ст. и примеч. В.К. Кантора, А.Л. Осповата]. М., 1982.
10. Совр. обложка 1927 – Современная обложка. / Текст Э. Голлербаха. 75 воспроизведений. – Л., 1927.
11. Сомов 2017 – Сомов К.А. Дневник. 1917–1923 / вступ. ст., подгот. текста, коммент. С.П. Голубева. М., 2017.
12. Тугендхольд 1987 – Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987.
13. Чегодаева 2002 – Чегодаева М.А. Там за горами горя… : поэты, художники, издатели, критики в 1916–1923 гг. СПб., 2002.
References
1. Belkin, V. (1922), “Peterburgskie pisma. Vystavka Mira iskusstva” [Petersburg letters. World of Art Exhibition], Novaya russkaya kniga, No 7, рр. 23–25.
2. Benois, A. N. (1968), Aleksandr Benois razmyshlyaet...: statyi, pisma, vyskazyvaniya [Alexander Benois reflections...: аrticles, letters, statements], Moscow, Russia.
3. Gerchuk, Yu. Ya. (2008), “Russkoe knizhnoe iskusstvo na perelome vremen (1918–1923)” [Russian book art at the turn of the times (1918–1923)], Problemy istorii, filologii, kultury, No 22, рр. 643–657.
4. Devishev, A. (1936), “Skazka o rybake i rybke” V. Konashevicha [The tale of the fisherman and the fish by V. Konashevich], Detskaya literaturа, No 6, рр. 35–40.
5. Kniga o Mitrokhine (1986): Statyi. Pisma. Vospominaniya [Book about Mitrokhin: Articles. Letters. Memoirs], Leningrad, Russia.
6. Konashevich, V. M. (1968), O sebe i svoem dele: Vospominaniya. Statyi. Pisma [About yourself and your business: Memories. Articles. Letters], Moscow, Russia.
7. Milashevsky, V. A. (2019), Pervy iz gruppy “13”: Dnevniki. Razmyshleniya ob iskusstve: materialy k biografii khudozhnika [The first of the group 13: Diaries. Reflections on Art: materials for the artist’s biography], Moscow, Russia.
8. Molok, Yu. A. (1969), Vladimir Mikhaylovich Konashevich, Leningrad, Russia.
9. Russkaya estetika i kritika 40–50-kh godov XIX veka (1982) [Russian aesthetics and criticism of the 40s–50s of the 19th century], Moscow, Russia.
10. Sovremennaya oblozhka (1927) [Modern cover], Leningrad, Russia.
11. Somov, K. A. (2017), Dnevnik. 1917–1923 [Diary. 1917-1923], Moscow, Russia.
12. Tugendhold, Ya. A. (1987), Iz istorii zapadnoevropeyskogo, russkogo i sovetskogo iskusstva [From the history of Western European, Russian and Soviet art], Moscow, Russia.
К списоку иллюстраций
Ил. 1. Г.С. Верейский. Портрет В.М. Конашевича. 1926. Литография. (http://tehne.com/assets/i/upload/event/vereiskii-portrety-russkikh-hudozhnikov-1927-003.jpg)
Ил. 5. В.М. Конашевич. Композиция из «Азбуки в рисунках». 1917–1918. Б., акв., тушь. (http://www.fairyroom.ru/?p=43971)
[1] Владимир Михайлович Конашевич. 1888–1963. Станковая и книжная графика: кат. выст. / Гос. Русский музей; авторы-сост.: Н.М. Козырева, И.Н. Липович, Н.И. Попова. Л., 1994. С. 100.
[2] ОР ГРМ. Ф. 117. Ед. хр. 49. Л. 9.
[3] Владимир Михайлович Конашевич. 1888–1963. Станковая и книжная графика: кат. выст… 1994. С. 86.
[4] ОР ГРМ. Ф. 70. Ед. хр. 581. Л. 26–26 об.
[5] РГАЛИ. Ф. 941. Оп 3. Ед. хр. 186. Л. 4–4 об.
[6] Графическое искусство в СССР. 1917–X–1927: Сб. ст.; выст. в залах Акад. художеств: кат. / Ленингр. акад. художеств. Л., 1927. С. 67.
Авторы статьи
Информация об авторе
Дмитрий В. Фомин, кандидат исторических наук, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; Российская государственная библиотека, Москва, Россия; dfomin13@yandex.ru
Author Info
Dmitry V. Fomin, Cand. of Sci. (History), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; Russian State Library, 3/5, Vozdvizhenka St, 119019, Moscow, Russia; dfomin13@yandex.ru