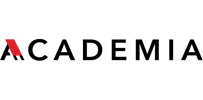«Дрянь человек», или антропологический негативизм в истории живописи
Александр К. Якимович
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, yakimovitch@mail.ru
Аннотация.
В статье излагается авторский взгляд на искусство Нового времени, которое осваивая отрицательных героев, изображает оскорбляющее поведение «низших классов». Попытки исследователей увидеть в таких работах – от Брейгеля до Брауэра – исключительно аллегорические подтексты недостаточны. Следует обратить внимание на оппозицию художественной среды и политических сил, возникающую в Европе. Рождается антропологический негативизм, проходящий затем через многие стадии развития (Гойя, Курбе, Домье, Пикассо и далее, до братьев Чепмен включительно). Русское искусство участвует в этом начиная с Перова и Репина и далее продолжается творчеством Михаила Ларионова, Оскара Рабина, Гелия Коржева, некоторых концептуалистов Москвы и Ленинграда.
Ключевые слова:
бытовая картина, низкий жанр, отрицательные персонажи, аллегория пороков, нравоучение, антропологический негативизм, авторская концепция
Для цитирования:
Якимович А.К. «Дрянь человек», или антропологический негативизм в истории живописи // Academia. 2023. № 1. C. 47–58. DOI 10.37953/2079-0341-2023-1-1-47-58
“Dirty dog”, or Anthropological Negativism in the History of Painting
Alexander K. Jakimovicz
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, yakimovitch@mail.ru
Abstract.
The article presents the author`s view of the art of Modern times, which mastering negative characters, depicts the insulting behavior of the “lower classes”. Attempts by researchers to see exclusively allegorical subtexts in such works from Brueghel to Brouwer are insufficient. Attention should be paid to the opposition of the artistic environment and political forces emerging in Europe. Anthropological Negativism is born, which then passes through many stages of development (Goya, Courbet, Daumier, Picasso, and then up to and including the Chapman brothers). Russian art participates in this, starting with Perov and Repin, and then continues with the work of Mikhail Larionov, Oscar Rabin, Helium Korzhev, some conceptualists of Moscow and Leningrad (St Petersburg).
Keywords:
genre painting, low classes, bad behavior, repulsive imagery, allegory of vice, moral predicament, Anthropological Negativism, author`s concept
For citation:
Jakimovicz, А.К. (2023), “‘Dirty dog’, or Negativism in the History of Painting”, Academia, 2023, no 4, pp. 47–58. DOI: 10.37953/2079-0341-2023-1-1-47-58
Новое время (в смысле Modernity) начинается с катастрофического обвала во второй половине XVI века. Разгорается война в Нидерландах, и террор войск Альбы наталкивается на ожесточенное сопротивление протестантов. Эта коллизия приносит на земли Нидерландов настоящий ад. Назревает и обрушивается на французов Варфоломеевская ночь. Европа вступает в период кровавого безумия под лозунгами «истинной веры» – той или иной.
Почти сотню лет, до середины семнадцатого века, эта катастрофа длилась и длилась, понемногу теряя свою разрушительную энергию по причине опустошения и обескровливания континента. Вероятно, это не случайно, что именно во Фландрии, на перекрестке культур и религий, возникает искусство, которое решительно и громко возражает против тех веяний идеологического безумия и той готовности к бурной и героической смерти ради Веры и ради Идеи, которые наступают на Европу. Имеются в виду креативные концепции Питера Пауля Рубенса, его «учение о жизни». Он был в определенном смысле собеседником и собратом француза Никола Пуссена – анахоретом жившего в Риме с его художественной программой «духовного выживания в мире бед».
В Нидерландах возникает еще одно явление в искусстве, которое тоже появляется, как думается, в качестве отклика на вызов времени, на переживание времени. Это фламандские художники из группы Адриана Брауэра и близкие к ним мастера, создающие совершенно иную, не схожую с рубенсовской, концепцию. Рубенс воспевает жизнь и восхищается могучими мужчинами и такими женщинами, телесное богатство которых нам сегодня представляется, мягко говоря, преувеличенным. За Рубенсом шагают последователи и ученики, единомышленники – от Йорданса до Фейта. Но есть и такие мастера во Фландрии, которые придерживаются совершенно других позиций.
Условно и в кавычках можно назвать их «злыми фламандцами». Они пишут картины, которые с известной точки зрения можно было бы расценить как обидные. Это картины из жизни народных низов или социального дна, и это сплошь сцены «постыдной жизни» или «позорного поведения». Или, скажем так, картины о свинском образе жизни и общей отвратительности человека. Неоспоримое центральное место в этом разделе живописи занимают большой художник Адриан Брауэр и связанные с ним единомышленники, последователи и продолжатели, от Йоса ван Кресбека до Давида Тенирса Младшего[1].
Речь идет не об отдельных двух-трех персонах, а о настоящем крупном явлении в искусстве семнадцатого века, да и всего Нового времени в целом. Сходное, даже параллельное явление возникло в виде группы «Бент»[2], этого очага северного искусства с неформальным лидером Питером ван Ларом. В этом интернациональном движении, которое нашло себе прибежище в папском Риме, участвовали голландские, фламандские и некоторые молодые итальянские живописцы. Это пестрое и строптивое сообщество молодых талантов производило на свет дерзкие картинки о жизни простонародья, где это самое простонародье позволяет себе разные безобразия, в том числе и хулиганские выходки в адрес зрителя. Они в этом смысле едва ли не предвосхитили некоторых радикальных художников двадцатого века.
Изображать безобразия и нарушения порядка, происходящие в низах общества. Очень любопытная концепция. Через пару столетий появится еще более радикальная, которая будет основана на неприятии господствующих ценностей. Известный манифест русских футуристов 1912 года назывался «Пощечина общественному вкусу». Его содержание соответствовало названию. Почему эта линия в искусстве упоминается сразу после фламандских опытов семнадцатого века? Сейчас читатель узнает причины такой встречи как будто далеких друг от друга явлений.
Итак, во Фландрии семнадцатого века появилась художественная и мировоззренческая концепция, которая была полярно противоположна рубенсовскому барокко с его пафосом полноты бытия, неистового и безудержного бурления жизни во всех ее проявлениях, вплоть до грубо-телесных. Адриан Брауэр и его единомышленники и продолжатели предлагают думать не о великолепной полноте бытия, а о тупиках бытия, о человеческом падении до скотского состояния. Но это не просто карикатуры на гадких людей и скверные поступки. Там есть еще тайные смыслы, расшифровка которых могла бы оказаться очень полезной историкам искусства[3].
Итак, в напряженной атмосфере, в постоянном присутствии военной угрозы, перед лицом обезумевших от теологических распрей и политических амбиций высших классов Европы молодые и дерзкие фламандские мастера из группы Брауэра пишут и пишут картины о человеческом оскотинивании. Что это означало в тогдашней ситуации да и в более поздние времена?
После Брауэра до наших дней сохранились примерно шестьдесят-восемьдесят картин небольшого формата, и все они высоко ценятся знатоками. Он работал очень недолго – примерно с 1620-го по 1638-й и умер в возрасте 33 лет. В возрасте Христа, так сказать. В эти годы великий Рубенс, мастер предыдущего поколения, только начинал работать кистью и выполнять свои общественные задачи в области политики и дипломатии. Брауэр же в этом возрасте завершил свой творческий путь, то есть сказал всё, что хотел.
Примерно девяносто процентов работ Брауэра – это картины о человеческом падении. Он изображает довольно противных, скотообразных человечков, которые предаются либо бытовым порокам, либо вовлечены в неприятные, пакостные дела. Чаще всего в этих небольших полотнах перед нами предстают выходцы социальных низов – нищие, крестьяне, слуги, какие-то деклассированные бродяги. Они выпивают, иногда допиваются до чертиков. Они играют в карты. Они некрасиво дерутся, хватаются за холодное оружие.
Нередко поводом для драк и поножовщины становились карты, а картежные игры в благонамеренной католической Фландрии запрещены, так же как и курение табака. Тем более что в табак тогда охотно подмешивали разные зелья, отключающее мозги.
Другие темы для «злых картин» фламандского разлива – это медицина низов и для низов, это разного рода лекари, зубные врачи, костоправы и прочие служители простонародного Гиппократа. Такие сюжеты позволяют изображать карикатурные позы, гротескные гримасы, запечатлевать что-то весьма неприятное и отталкивающее. Собственно говоря, медицинские сюжеты во все времена открывают подобные возможности. Одним словом, изображаются свинства человеческие – некрасивые, но забавные слабости, запретные удовольствия, отталкивающее и потешное врачевание.
Изображаются также отдельные фигуры и головы в состоянии возбуждения, неприятно гримасничая. Например, человек пробует горькое лекарство или особо забористый напиток и кривит физиономию, которая далека от любого благообразия. Уличный мальчишка делает нам, зрителям, известную гримасу, растягивая пальцами рот, отчего его вульгарная и не очень чистая рожица приобретает сходство с каким-то животным. К тому же заметим, что в этой известной картине с гримасничающим мальчишкой (кисти Брауэра) персонаж художника носит шляпу с подоткнутым под тулью ножом, а этот нож можно использовать не только за обеденным столом. Не исключено, что парнишка имеет отношение к уличной банде где-нибудь в Антверпене или Брюгге. Он не только рожи корчит, но может и ножом пырнуть.
Животное (скотское, оскорбительное) начало в первую очередь бросается в глаза в этих картинах. Иногда появляется намек на необузданное и непристойное сексуальное поведение, а иногда можно заподозрить, что дело происходит в борделе самой низшей категории – там, где опустившиеся, отупевшие или упившиеся клиенты ищут утех у столь же неаппетитных женщин. Секс, как и выпивка, табакокурение, игры в карты, дают широкие возможности для изображения низменных начал.
Композиции Брауэра рассматривались в свое время и до сих пор описываются в литературе как аллегорические изображения либо пяти чувств, либо семи смертных грехов. То есть нам предлагается поверить в то, что эти сцены – суть нравоучительные картинки, и, глядя на них, мы, зрители, должны становиться лучше и чище, возносясь душой над той низменной реальностью, которая там запечатлена. Интересно, каким же князем Мышкиным надо быть, чтобы, глядя на это копошение двуногих уродов, сострадать падшему человечеству и жаждать Света и Добра? И это тогда, когда нормальному человеку хочется либо держаться подальше от двуногой дряни, либо пожелать им поскорее покинуть сей мир, где и без них не очень-то хорошо живется.
В расхожих соображениях о нравоучительности и аллегоричности картин Брауэра есть либо лукавство, либо маркетинговый ход (маркетинг обычно не живет без лукавства). Полагаю, что в семнадцатом столетии художникам из группы Брауэра было легче найти покупателей для своих картин, если дать людям понять, что изображаются не просто двуногие твари и отбросы человечества, а имеются в виду наставительные моральные идеи. Не пей и не кури, в карты не играй до одури, по сомнительным местам не шляйся, веди себя с женщинами по-человечески, и тогда ты достоин уважения. И попытайся быть человеком даже тогда, когда лекарь прикасается к больному месту; не криви отвратные гримасы и не изрыгай гнусных ругательств; всегда и везде будь цивилизованным человеком, а не хамом.
Возникают сомнения по поводу таких нравоучительных трактовок. Разумеется, люди семнадцатого века имели свои особенности, не во всех моментах поведения и мышления они сходны с людьми нашего времени. Но все-таки трудно себе представить, что были такие люди в прошлом во Фландрии или где-либо еще, которые смотрели на эти сценки или физиономии в картинах Брауэра и были готовы черпать оттуда моральные наставления.
Какие там наставления, помилуйте. Нам показывают образцы предельно опустившегося человечества – для того ли, чтобы мы смотрели на это непотребство и вразумлялись, и не делали того, что делают эти самые персонажи Брауэра? Речь идет о том, что люди по своей сути безнадежны. Нравоучение и моральные наставления возможны, пока поучаемому дается надежда на исправление. При виде человеческих отбросов в картинах «злых фламандцев» скорее думается о том, что их персонажи неисправимы и переделать их в нечто человеческое не сможет никто.
На самом деле эта проблема сложнее, чем здесь описано. Вся большая традиция Брейгеля, и в том числе картины Брауэра и его группы, отчетливо связана с мировоззрением шекспировского типа. Речь идет не о том, что художники ходили в театр или читали книги и так обогащали свой внутренний мир. Художники XVII века, видимо, обходились и без всяких контактов с литературным и сценическим творчеством. Жители Фландрии или Голландии могли вообще не иметь никакого понятия о Шекспире. Мироощущение и миропредставление шекспировского типа пробивается в изобразительном искусстве как бы само по себе. Если говорить кратко, художник без скидок изображает неприглядный образ жизни людей, и в то же время сама живопись громко высказывается о великолепии и красоте бытия.
Вот это существенно в контексте мировой истории искусств.
Перед нами тот самый «шекспировский» взгляд на мир, который мы с вами время от времени наблюдаем в искусстве Нового времени. Люди ужасны и отвратительны, а жизнь прекрасна. Такой парадокс. Этот парадокс формируется в словесных и сценических искусствах за счет языка и за счет игры актеров. В живописи этот парадокс «прекрасного отвратительного» связан с качеством живописной ткани. Персонажи Брауэра вызывают оторопь и отчуждение своими низменными склонностями, но живопись превращает эту картину жизни в настоящий праздник для глаз. Брауэр находит свое собственное решение для этого парадокса, столь характерного для Нового времени[4].
Брауэр был едва ли не единственным живописцем XVII века, который на самом деле унаследовал не только богатство палитры великого Брейгеля, но и его философию. В картинах Брауэра не следует видеть одно лишь нравоучение, их надо воспринимать как своего рода радикальный антропологический негативизм. Такой негативизм не несет моральных уроков и не работает в качестве визуального пособия в деле исправления нравов. Подобно Брейгелю, Брауэр отчетливо выговаривает, что среди наших сограждан на этой земле немало таких, которых не исправишь никакими моральными уроками, и вообще с человеком дела плохи. Можно ли думать о какой-то перспективе нравственного исправления или очищения нравов, глядя на картины Брауэра? Вряд ли.
Существует предположение, что Брауэр и его единомышленники были приверженцами моральной философии Юста Липсия. Этот последний проповедовал христианский стоицизм и был, в свою очередь, верен Сенеке [Oestreich 1982]. Липсия и Сенеку очень ценил ученый эрудит и художник Питер Пауль Рубенс. Этот мыслитель был одним из источников новой философии полноты бытия.
Юст Липсий, мыслитель рубежа XVI и XVII веков, говорил о том, что жизнь человеческая полна мерзости. Мы в грехах купаемся непрерывно и сами даже не очень понимаем, насколько мы смешны, греховны, нелепы. И подлинный выход для образованного и просвещенного христианина – это стоическая мудрость, которая ведает о том, как низок и нехорош человек, но способна преодолеть это состояние глубокой неполноценности человека.
Сознавать свое глубокое нечестие, свою отвратительную природу мыслящему человеку необходимо, а закрывать глаза на собственную отвратительность недостойно философа. Соединение учения Христа с античной мудростью поможет решить эту сложнейшую проблему мыслящего человека[5]. Рубенс, запечатлевший себя около 1605 года в своем известном автопортрете с друзьями, поместил справа за своей головой бюст Юста Липсия. Рубенс был философски подкованный человек, знаток языков и разного рода литературы, от античной до новейшей.
Но вот ведь в чем загвоздка. Круг Рубенса, его друзья, эти гордые молодые интеллектуалы, и в самом деле знали Липсия и Сенеку, вообще они разбирались в предмете. Они знали языки новые и древние, читали книги и обсуждали вопросы философии. Это было продвинутое и культурно развитое сообщество. Можем ли мы предположить, что круг Адриана Брауэра тоже был посвящен в эти философские материи и умел обсуждать в своей среде проблемы моральной философии Сенеки, Юста Липсия, проблемы христианского стоицизма, взятые в их глубине?
С Рубенсом такое предположение хорошо вяжется. Так же как и с Пуссеном, воспитавшим себя в любви к философской мудрости и эрудиции, чтению и размышлениям о жизни в уединении. Рембрандт был мыслителем и образованным человеком. Но предположение о философской эрудиции не согласуется с представлениями о круге Адриана Брауэра. То, что мы о них знаем (об их характерах, жизненных путях и нравственных установках), указывает на то, что это была молодежная среда с отчетливо негативистскими настроениями. Такая среда нам скорее знакома по более позднему времени, по молодежным бунтам второй половины 1960-х.
Известен групповой портрет круга Брауэра. Сам он запечатлен в центре. Рядом с ним дурачится его ученик и друг Йос ван Кресбек. Этот молодой человек занимается тем, что пускает дым и пучит глаза, всячески акцентируя состояние некоторой эйфории. Глядя на такую молодежь, на их нехитрые развлечения и образ жизни, как-то не думается о том, что они собирались своей компанией, чтобы поговорить о проблемах моральной философии, о мудром стоицизме старика Сенеки и новомодного Юста Липсия. На философский семинар эти сборища были явно не похожи.
Они очевидным образом собрались, чтобы погулять, получить удовольствия от своего безобразного поведения. Но считать их маргиналами нельзя. Они – профессиональные художники своего времени, не только имеют техническую подготовку, но и обладают эрудицией гуманитариев. Они обязаны знать религиозную литературу и основы философских учений Античности и Ренессанса. В то время художники-профессионалы только так и получались. Но они не подчеркивают свою причастность к культуре, а бросают вызов приличиям буржуазного общества.
Рисунок поведения куда как знакомый. Так вели себя позднее и молодой Гойя в тавернах и кабаках Испании и Италии, и Пикассо в Барселоне и Париже, и Зданевич с Маяковским в Москве и Петербурге. Эти истории нам знакомы. О наших современниках умолчим. Не будем сбивать с толку молодежь дурными примерами.
Картины Брауэра, Кресбека и других «злых художников» содержат в себе вызов и протест против правильного общества, его эстетики, против приличной публики. В этом смысле группа из Антверпена была похожа на римскую «Бент» и на других непокорных вроде Караваджо и некоторых из караваджистов. Они вовсе не пытаются учить публику добрым нравам, не очень заботятся о нравоучении. Они показывают публике нечто вроде непристойного жеста. Словно говоря, что покажут такое, что у приличных людей волосы станут дыбом. И притом пишут качественно и профессионально. Да еще и умеют повернуть сюжеты и иконографию непривычным и дерзким образом. То есть они хорошо подготовлены в гуманитарной области.
Приходится делать вывод, что некая эстетическая и этическая социальная программа, программа протеста и нонконформизма, впервые появляется в искусстве семнадцатого века. Как это делают Караваджо и мастера римской «бамбоччаты», мы знаем. Фламандские «злые художники» – это еще одно сообщество, бросающее вызов привилегированным социальным кругам, носителям господствующей высокой культуры с их высокими нормами и ожиданиями. Закономерно, что этот вызов звучит из Фландрии, страны, пребывающей в самом центре европейских катаклизмов. В Испании – инквизиция, в Нидерландах длится и длится война, и никто не знает, когда настанет этому конец. В Риме горит на костре Джордано Бруно. Люди искусства знали про все это, как и про нападки на Галилея, про истерическую атмосферу Парижа, где не хотел задерживаться надолго умный и глубокий мыслитель Рубенс. Там во имя «идеи» и «правильных убеждений» убивали, как убили Генриха IV, а придворные, бюрократы и клирики всячески подливали масла в огонь. Ожесточение Варфоломеевской ночи имело продолжение.
Отсюда и мысль, которая прослеживается уже в семнадцатом столетии, – то в письмах Рубенса и Пуссена, то в картинах тех или иных художников, то в намеках пьес Мольера, да и у Шекспира нечто подобное было. Это он, Шекспир, сказал: «Чума на оба ваши дома». Историки давно догадались, что великий драматург имел в виду. Не только соперничество двух семейств, погубивших возлюбленных. Имелась в виду идеократия, или «идеологическое неистовство» (rabia ideologica). Приближенные к тронам и алтарям насаждали «правильные» идеи и «истинные» верования огнем и мечем. Ради торжества великих идей считалось возможным истреблять людей в любом количестве.
Думается, что «злые фламандцы» из группы Брауэра хотели сказать своим современникам примерно следующее. Вы, хорошие правильные люди с хорошими правильными идеями, защитники своих вечных ценностей и духовных скреп; вот вы-то и устроили этот ад. Носители ценностей – они и есть убийцы и душегубы. Европа горит с разных концов, в разных местах континента воюют и жаждут крови. А мы – художники, люди искусства – вольные птицы, и не хотим с вами иметь ничего общего, и покажем такие картинки, чтобы жизнь медом не казалась. Связь между исторической обстановкой и появлением «злых художников» или, скажем учеными словами, антропологических негативистов представляется довольно отчетливой и вполне закономерной.
Заметим, что Брауэр вызывал у понимающих людей и до сих пор вызывает истинный восторг именно качеством своей живописи. Он живописует гадости и паскудства людского рода, но делает это достаточно тонко. У него такие цветовые нюансы, такая изысканно валерная живопись, которую на самом деле иногда можно сравнить даже с Ватто. Словно полупрозрачный цветной туман пульсирует и клубится в этих странных небольших картинах, и из этой драгоценной красочной материи сплетаются такие скверные физиономии и отталкивающие фигуры, такие жесты и ситуации, которые приличному человеку и рассматривать неприятно. Но если посмотришь на живопись как таковую, то поневоле удивишься: как же это изумительно написано.
Тут возникает эффект, который будет позднее использован в живописи время от времени. Отвратительные сцены человеческого падения запечатлеваются великолепной кистью, совершенными живописными средствами. «Дрянь – человек» – концепция безжалостная. А живопись радует глаз. Большие мастера нередко добивались этого удивительного результата, от Гойи до Михаила Ларионова. Их предтечей и провозвестником был именно фламандский мастер, разработавший вышеописанный прием.
Можно ли говорить о социальной сатире в картинах этой группы мастеров? Существовала теория, что Брауэр и его друзья, а позднее Давид Тенирс Младший и некоторые другие мастера эксплуатировали запросы и вкусы городской элиты, которая покупала картинки c забавными сюжетами в «низком жанре» [Legrand 1963, p. 145]. В Северной Европе обострились отношения между верхами и низами. Такое обычно случается в переломные моменты истории.
Проблема именно в том и заключается, что Брауэр изображал глупости и мерзости рода человеческого с такой степенью живописного мастерства, которая явственно преображает и даже как бы перекодирует эти самые картины. На самом деле уроки морали или социальная сатира никогда не нуждаются в хорошей живописи. Моралистика и критика как таковые требуют раскрашенных картинок узнаваемого свойства. Чтобы зрители смотрели и нравственно вразумлялись, для того шедевры вовсе не нужны. Шедевры вообще – помеха для морали и нравственности в их официальном варианте. Для эффективной моральной проповеди или социальной пропаганды нужна средняя приличная изобразительная продукция. Художнику с моралистическими намерениями не нужно и даже вредно владеть тонким и глубоким мастерством в области живописи. Он должен доходчиво иллюстрировать ходячие истины, а не создавать живописное волшебство на холсте. Живописное волшебство как раз внушает нам, что разного рода «традиционные ценности», патриархальные нормы поведения, приличия и мораль – они все, в сущности, призрачны и относительны. Настоящая великолепная Вселенная устроена по иным меркам.
Существуют известные историко-социологические комментарии к этой теме. Они гласят, что Нидерланды в это время двигаются по пути буржуазного развития. С затруднениями, с разными искажениями и отклонениями, но все равно буржуазия и зажиточные культурные слои знати возникают в разделенной стране и начинают определять лицо общества. На авансцене жизни – буржуазия, которая находит модными занятные картинки о простом народе. Так сказать, любят смаковать продукт с перцем. Карикатуры на простонародье – это ходовой товар на новом художественном рынке.
Культурные состоятельные буржуа вешают картинки с разными забавными сюжетами, изображающими глупости где-нибудь в прихожей или коридоре своего благополучного дома. В гостиной или столовой они такие не повесят, там уместны картины с благовидными сюжетами или хорошо сделанные натюрморты и пейзажи. В прихожей или на черной стороне дома – там очень даже можно поместить эти диковины, эти забавные полотна с пьяными рожами, драками в пивной, с курильщиками травки, опустившимися бабенками и прочей фауной социальных клоак.
Еще раз: карикатура и карикатурность – это такие вещи, которые вовсе не требуют хорошей, качественной живописи. Великолепная живопись превращает карикатуру в нечто иное, в эпический жанр. И оттого, например, простонародные картины Домье – это не карикатуры, а именно новаторский эпический жанр.
Историческая генетика и смысловая направленность фламандских антропологических негативистов представляется довольно очевидной. Это философская антропология как искусство, и это искусство протестного типа. Вероятно, протест с течением времени выдыхался, и мы вряд ли можем называть Давида Тенирса Младшего в полном смысле слова протестным художником [Vlieghe 2011, p. 185]. Но пафос самого Адриана Брауэра, основоположника этой линии развития, представляется откровенно бунтарским. Он бросает вызов тому обществу, которое у него было перед глазами.
Феномен Брауэра – пафос антропологического негативизма в сочетании с живописным совершенством – это вообще случай уникальный, и такое сочетание мы в дальнейшей истории живописи и изобразительного искусства обнаруживаем не часто. Но все же некоторые параллели к «принципу Брауэра» мы как будто угадываем в дальнейшей истории живописи.
Карикатурные и гротескные картины о безумствах, глупостях и гадостях народной жизни позднее, после XVII века, появляются в истории живописи в соединении с отчетливыми левыми идеями. У старых фламандцев мы этих идеологических уклонов не наблюдаем. Адриан Брауэр явно не думал о том, что можно писать непрезентабельную публику и пытаться ее оправдать или осудить. Он говорит о социальных типажах в своих картинах, но имеет в виду природу человеческую вообще.
Карикатурность и гротеск социальной направленности возникают тогда, когда появляются задачи идеологические и пропагандистские. Иногда задачи были нравоучительные, как у англичанина Хогарта. Его известные живописные серии из жизни одной распутницы и одного прожигателя жизни на самом деле представляют кутежи и безобразия разгульной жизни ради осуждения. Эти картины Хогарта не отличаются высокими живописными достоинствами. У него есть отличная живопись, но хорошо он писал только тогда, когда не ставил пропагандистских задач.
Отдельная глава в воображаемой истории «злого искусства» – это творчество зрелого и позднего Гойи. Он где-то приобрел свое удивительное умение писать ужасы и гротескные мерзости живой и сверкающей, драгоценной кистью. Драгоценная живопись изображает такую антропоморфную фауну, от которой лучше держаться подальше. В росписях собственного дома, называемого Домом глухого (Quinta del Sordo), он запечатлевает, по сути дела, какие-то тягостные и чудовищные сны о судьбах человечества. Вникать в эти странные образы или пытаться интерпретировать их нам сейчас нет никакой нужды. Достаточно сказать, что там запечатлено обреченное человечество, которое заслуживает своей судьбы.
Возникает предположение, что этот замкнутый и непроницаемый, странный, пожилой человек в Мадриде (а потом и в эмиграции во Франции) то ли своим умом дошел до левых идей, то ли как-то соприкоснулся с протокоммунистическими умонастроениями. Откуда это у него взялось, никто сейчас точно не знает, но можно догадаться, что его замечательная и мощная картина «Кузница» (1815–1820) из The Frick Collection (Medison, Нью-Йорк, США), а также некоторые другие картины воплощают идею того типа, которую мы затем не раз будем встречать в искусстве девятнадцатого столетия и далее.
Идут вперед народные низы. Вот они, эти грубые, жестокие, страшные и гротескные люди. И они правы. Они ужасны, и они ужасно правы своей ужасной правотой. Они разнесут и взорвут старое общество, они отомстят за многовековые насилия и унижения. Они покажут старому миру такое, отчего этот старый мир ужаснется и закачается. Старый мир это заслужил, и угнетателям будет плохо, и всем остальным людям тоже будет плохо. Революции – эти трудные – кошмарные – времена для всех, а не только для свергаемых элит. Но это случается, ужас приходит в дома, от которого никуда не деться. Человечество заслуживает то, что ему предназначено. Такие смысловые горизонты транслировались из бурно развивающихся левых идей, особенно в девятнадцатом веке.
Трудно говорить уверенно, но можно предположить, что именно к позднему Гойе восходит эта бунтарская в искусстве (и отчасти литературе) девятнадцатого – начала двадцатого века – оправданного и неизбежного социального кошмара, который придет с усилением угнетенных классов, с выходом низов, трудящихся и деклассированных на мировую арену. Возмездие – вещь ужасная, но это исторически неизбежная кара обществу и всему человечеству.
Вероятно, таким было и мировоззрение Гюстава Курбе. Его левые идеи начинались с картины «Похороны в Орнане» (1849–1850) (Музей Орсе, Франция). Перед нами своего рода похороны старого мира. Там старообразные, морщинистые и сухие, похожие на набальзамированные трупы приличные буржуа из провинциального городка хоронят одного из своих, а у могилы стоит сухопарый старик в костюме санкюлота – типичной одежде якобинцев и деятелей революции.
Там такие мертвенные лица, такие руки и одежды, что это все действительно похоже на коллективные похороны приличного общества одного французского городка. И тот факт, что старик-якобинец явно произносит прощальное слово, тоже имеет свой смысл. Речь идет о похоронах старого мира. Старый революционер читает ему отходную.
Курбе сделался коммунаром и верил в социальную революцию. По-видимому, он не читал Маркса, который в свои молодые годы пророчил приход ужасных мстителей за грехи и пороки старого мира. Эта мысль приходила в разные головы даже без воздействия марксизма. Простонародные типы в картинах Курбе середины века – это тот неизящный простой народ, который и станет орудием исторической мести прежним властям и элитам.
Курбе изобразил, например, новую пролетарскую породу людей в картине «Каменотесы» (1849)[6]. Там ничего сатирического или карикатурного мы не заметим. Левак и коммунар Курбе и не думал обличать уродство и хамство простонародья. Он скорее хочет воспеть эту «низшую расу», которая должна еще распрямиться и показать богатым подлецам, где раки зимуют. А точнее, эти низы общества себя не пожалеют и никого не пожалеют, когда будут этот старый мир разрывать в клочья. Таковы были убеждения художника, и эти убеждения достаточно очевидны в его картинах. Карл Маркс в молодости тоже так думал, как и другие интеллектуалы и художники «левого» лагеря.
Домье разделял коммунарские или левацкие убеждения Курбе. Как мы знаем, карикатурность в его графике обычно заострена против политических врагов простого народа. Он карикатурно изображал в виде мерзких тварей и министров, и буржуев, и депутатов парламента, и прочих власть имущих. Когда он писал кистью своих простонародных героев, то они в высшей степени экспрессивно намечены и написаны, но деформации в их фигурах и лицах говорят не об их человеческой неполноценности, а о том заряде гнева и ненависти, который поднимается снизу.
Наш Василий Перов использовал опыт карикатуры в живописном деле с намерениями простодушного и прямолинейного обличителя. В его картине «Чаепитие в Мытищах» несчастный изголодавшийся оборванец, то есть солдат-инвалид, вернувшийся из горячей точки того времени (может быть, Крымской войны 1855 года или очередной кавказской кампании), ни в коей мере не карикатурен. Это несчастный больной человек в оборванной солдатской шинели, с медалями на груди. Карикатурен здесь зверообразный поп, это сытое и тупое волосатое существо, от которого явно никакого милосердия не дождешься.
Илья Репин повернул народный типаж в совершенно определенное русло. Он стал изображать грубый, грязный, некрасивый народ с очевидным вызывающим пафосом. Вот босяки и бродяги Запорожской Сечи пишут письмо турецкому султану (известная картина 1891 года, ГРМ). Султан тут для отвода глаз. Речь идет о наших российских господах, о русской власти и русских высших классах. Запорожские вольные вояки обращаются к правящему классу. Они и есть новый класс, которому нечего терять, кроме своих цепей.
Трепещите, господа. Эти голодранцы возьмут в руки оружие и сделают господам и угнетателям очень больно. Репин был народник, причем более радикальный, нежели Перов или Мясоедов. Илья Ефимович был всегда горяч и неистов, и его картины с босяками были дерзкими идеологическими декларациями. Восхищение босяком и гордость за опасных маргиналов – это своего рода декларация репинской социальной философии. Она совпадает с идеями и творческими устремлениями молодого Горького, певца социальных низов.
В Европе наследие антропологического негативизма принимало в это время особые формы. После Парижской коммуны идеологические экстазы были не в чести. Художники, как молодой Ван Гог или Джеймс Энсор, перекодировали пафос горечи, протеста и мести в эстетический регистр. Тулуз-Лотрек, как это ни странно, на свой лад использовал опыт Брауэра, вряд ли о том специально думая. Его бордельные сцены запечатлевают предельное падение человека, но притом в этих борделях есть вызывающая эстетика. Его сцены с гротесками из ночной жизни Парижа – это вызов приличному обществу, лицемерному морализму буржуазии.
Далее уже Пикассо использовал образы нищих и циркачей с частично протестными целями, но он все-таки скорее старался монументализировать и героизировать своих изгоев. Эта тема настолько полно обговорена и прописана в научной и популярной литературе, что здесь не обязательно вникать в нее более обстоятельно.
Михаил Ларионов – уникальный мастер, которого можно с полным правом поставить рядом с Адрианом Брауэром. В его солдатской серии мы наблюдаем беспардонную и безответственную солдатню, которая бездельничает, покуривает, думает о чем-то, наверняка непристойном, играет в карты и так далее. И что самое замечательное: эти вещи написаны на высочайшем уровне, в них такое живописное качество, которого не достигали не только другие примитивисты, но и самые утонченные мастера Запада и России.
Особый мир – это американское реалистическое искусство ХХ века. Вдаваться в разные аспекты этой обширной темы здесь нет резона. Замечу только, что гротескные физиономии, карикатурные движения и разного рода грубости позволяют себе и художники-регионалисты, и художники левых сил в ХХ веке. Например, Бен (Бенджамин) Шан.
Совершенно особый случай – это большие картины и графика такого странного и неприкаянного художника, как Пол Кадмус. Он вообще редкий для Америки образец академиста отличного качества, но в то же время он был академист-разоблачитель. Он разоблачает человечество, клеймит сытого и довольного обывателя Америки и Европы. Он был антропологическим негативистом в самом прямом смысле этого слова. Картины Кадмуса – это огромные раскрашенные карикатуры на род человеческий, а более всего на американцев во всех их обличиях и воплощениях. Это и молодежь, и старики, и уличные типы, и олигархи, и матросы американского флота, и дамочки легкого поведения, и американские туристы за границей.
Кадмус гордился своим рисовальным мастерством, и он действительно владел изощренным умением изображать фигуры и лица в сложных ракурсах. Сам он считал, что умеет рисовать не хуже Микеланджело. Вопрос в том, каковы результаты, то есть что именно хочет нам сообщить этот виртуозный рисовальщик. Он явно хочет нам сообщить, что человек – изрядная дрянь, а особенно ежели он состоятельный и довольный собою. Если бы Пол Кадмус еще был истинно большим живописцем, то получилось бы крупное явление в истории искусств. Но итоги проблематичны; виртуозно нарисованные сцены раскрашены весьма посредственно и являют собою своего рода монументальные полукарикатуры.
Приходится торопиться и прибегать к скороговорке, ибо охватить все обилие возможного материала на данную тему явно немыслимо. Но давайте вспомним некоторые особо громкие и радикальные итоги позднего двадцатого века. Самые скандальные художники рубежа ХХ – начала ХХI веков – вероятно, братья Чепмен (Джейк и Динос). Они неустанно изображают, в разных форматах и вариантах, обреченное человечество, погибающее в спазмах насилия и безумия и вполне достойное своей участи. Если придумать честный общий эпиграф к творчеству лихих братьев из Великобритании, то это будут слова: «Туда нам всем и дорога».
Замечу, что вступать в дискуссии по поводу творчества братьев здесь не следует. Разговоры о том, что они делали не искусство, а занимались своего рода макетированием и изготовлением манекенов, смысла не имеют. Строго говоря, изобретение пластических «макетов», соединяющих пейзаж, фигурные сцены и вообще что угодно, принадлежит не им. Своего рода макетирование практиковал замечательный Марсель Дюшан и другие мастера. А еще раньше изобретателем монументальных театрализованных «макетов» был не кто иной, как известный мастер семнадцатого века, виртуоз зрелищных эффектов – Бернини.
Глубоко идут корни антропологического негативизма в западноевропейском и американском искусстве конца двадцатого и начала следующего столетия. Вызывающие опыты венского акционизма и западного поп-арта внесли свой вклад в историю этих усилий. Человек как машина и человек как манекен или гальванизированный труп – такое послание мы обнаружим в творчестве Джеффа Кунса и Дамиена Херста, Ванессы Бикрофт и Анзельма Кифера.
Что же касается антропологического негативизма в искусстве, кино и литературе позднесоветской эпохи в России и в отечественном искусстве последних лет (начала и первой четверти двадцать первого века), то тут мы найдем большое обилие материала. Причем надо иметь в виду, что «принцип Брауэра», или изображение отвратительного человека полноценными и высокохудожественными средствами, реализуется в современном искусстве «поверх барьеров», полностью игнорируя групповые, социополитические и стилистические границы. Мы классифицируем художников СССР по их принадлежности к «официальному» или «неофициальному» лагерям или хотя бы по степени приемлемости для того и другого. Но «принцип Брауэра» действует и там, и там.
Мы встречаем в живописи Советского Союза и целую серию «тюрликов», то есть уродов и мутантов, запечатленных суровой реалистической кистью Гелия Коржева
в 1980-е и 1990-е годы. И тогда же Татьяна Назаренко создает довольно многочисленные картины с гротескными людьми-манекенами, наделенными зверообразными мордами – как бы масками, приросшими к лицам.
За двадцать и тридцать лет до того Александр Арефьев изображал своей яркой и живой кистью обитателей ленинградских трущоб и подворотен, эту «брауэровскую» фауну маргиналов, алкашей, психопатов и хулиганов. Они нередко бывают жертвами, но они также насильники и убийцы. О Вячеславе Калинине говорят и пишут, что он изображал жизнь подпольной богемы в духе «карнавализма». Это отнюдь не веселый и вовсе не добродушный «карнавализм». Перед нами гулящая, в нравственном смысле явно безнадежная двуногая фауна, причем элементы манерной стилизации только подчеркивают человеческое падение в этих картинах и рисунках.
Виталий Комар и Александр Меламид, Александр Косолапов и Дмитрий Врубель, Константин Звездочетов и другие соц-артисты и младоконцептуалисты 1980-х годов отдали дань антропологическому негативизму. Таким образом, разные полюса и лагеря искусства, создававшегося в СССР, воздали должное самому старому принципу: писать и рисовать качественно и с помощью хорошего (или хотя бы приличного) профессионального мастерства передавать одну из ключевых идей новоевропейской культуры. Развитый арсенал искусств запечатлевает убожество и духовную нищету наших современников.
Вы спросите, зачем сегодня делать такие вещи, то есть делать качественные произведения искусства на материале человеческого падения?
Кроме Адриана Брауэра, ответ могли бы дать и Джойс, и Кафка, и Ингмар Бергман, и Венедикт Ерофеев, и Владимир Сорокин, и Людмила Петрушевская, и Трумен Капоте, и Алексей Балабанов, и другие протагонисты художественной культуры Большой эпохи на Западе и на Востоке. Они показывают нам, зрителям и читателям, что художнику по силам преодолеть отвратительный, абсурдный, бредовый, нелепый, кровавый опыт Нового времени – от Тридцатилетней войны до сегодняшнего дня. То есть не противопоставлять безумию нашей истории какие-нибудь светлые мечты и сказки о Высоком и Прекрасном, а применить средства большого искусства к материалу самого ужасного и отталкивающего свойства.
Показать, какая дрянь есть человек, и в то же время выразить восхищение перед лицом вечного и бесконечного Бытия – такая задача была по плечу Шекспиру и Ахматовой. Искусство двадцатого века в своих вершинных проявлениях ставило перед собой эту задачу.
Это означает проявить стойкость и бесстрашие перед чудовищными гримасами самой Истории, от которых кровь стынет в жилах и недоумение парализует силы. Настоящее искусство, быть может, есть единственное спасение от напастей нашего великого и ужасного времени. Оно, искусство, умеет заглянуть в глаза исторического Сфинкса.
Литература
- Burger W. [Théophile Thoré]. “Sur Brouwer.” L’Artiste. 1859. Nouvelle série: V. 6. P. 58–59.
- Legrand F.C. Les Peintres flamands de genre au XVIIe siècle. Brussels, 1963. P. 145.
- Leira H. Justus Lipsius, political humanism and the disciplining of 17th century statecraft // Review of International Studies. 2008. No 34(4). P. 669.
- Oestreich G. Neostoicism & the Early Modern State. Cambridge University Press, 1982
- Renger K. Adriaen Brouwer und das niederländische Bauerngenre. 1600–1660: Exhibition catalogue. Munchen: Alte Pinakothek, 1986. P. 17, 51.
- Vlieghe H. David Teniers the Younger (1610–1690). A Biography (Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th-Century Flemish Painting and Drawing, XVI) Turnhout: Brepols Publishers, 2011. P. 185.
- Weller D.P. Small Treasures: Rembrandt, Vermeer, Hals, and Their Contemporaries: Exhibition catalogue. North Carolina Museum of Art. Raleigh, 2014. P. 65.
References
- Burger, W. [Théophile Thoré], “Sur Brouwer,” L’Artiste, 1859, Nouvelle série: V. 6, pp. 58–59.
- Legrand, F.C., Les Peintres flamands de genre au XVIIe siècle, Brussels, 1963, p. 145.
- Leira, H., “Justus Lipsius, political humanism and the disciplining of 17th century statecraft”, Review of International Studies, 2008, no 34(4), p. 669.
- Oestreich, G:, Neostoicism & the Early Modern State, Cambridge University Press, 1982.
- Renger, K., Adriaen Brouwer und das niederländische Bauerngenre, 1600–1660. Exhibition catalogue, Alte Pinakothek, Munchen, 1986, pp. 17, 51.
- Vlieghe, H., David Teniers the Younger (1610–1690). A Biography (Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th-Century Flemish Painting and Drawing, XVI), Turnhout: Brepols Publishers, 2011, p. 185.
- Weller, D.P., Small Treasures: Rembrandt, Vermeer, Hals, and Their Contemporaries: Exhibition catalogue, North Carolina Museum of Art, Raleigh, 2014, p. 65.
[1] Weller D.P. Small Treasures: Rembrandt, Vermeer, Hals, and Their Contemporaries: Exhibition catalogue. North Carolina Museum of Art. Raleigh, 2014. P. 65
[2] Bent, или Bent vogels (нидерл. – перелетные птицы).
[3] Burger W. [Théophile Thoré]. “Sur Brouwer”. L’Artiste. 1859. Nouvelle série: V. 6 . P. 58–59.
[4] Renger K. Adriaen Brouwer und das niederländische Bauerngenre, 1600–1660: Exhibition catalogue. Alte Pinakothek. Munchen, 1986. P. 17, 51.
[5] Leira H. Justus Lipsius, political humanism and the disciplining of 17th century statecraft // Review of International Studies. 2008. No 34(4). P. 669.
[6]Другие названия «Дробильщики камня», «Дробильщики шоссейного камня»; хранилась в Дрезденской картинной галерее (Германия), утрачена в 1945 г.
Авторы статьи
Информация об авторах
Александр К. Якимович, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21, yakimovitch@mail.ru
Authors Info
Alexander K. Jakimovicz, Dr. of Sci. (Art history), Academician of Russian Academy of Arts, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; yakimovitch@mail.ru