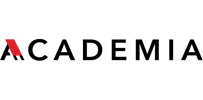Актуальность и интертекстуальность в живописи Эдуарда Мане
Актуальность и интертекстуальность в живописи Эдуарда Мане
Красимира Л. Лукичева
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, loukichevakl@rah.ru
Аннотация:
В статье живопись Эдуарда Мане рассматривается в двух традиционных ракурсах: это сложение новых живописных средств, репрезентирующих окружающую жизнь и открывающих перспективу развития современного искусства, и диалог с искусством старых мастеров, в контексте которого происходит деструкция классического типа мимесиса и рождение нового статуса картины. Но здесь акценты расставлены по-иному: предпринята попытка аргументировать то, что новизна и значение живописи Мане предопределены не изменившейся социальной средой напрямую, они рождены новым визуальным дискурсом современности, отвечают на вызовы, предъявляемые новой стадией в развитии искусства, его новыми функциями в стратификации культуры.
Ключевые слова:
Эдуард Мане, актуальность, интертекстуальность, классическое искусство, современное искусство, живописный эксперимент, мимесис, картина, репрезентация реальности.
Для цитирования:
Лукичева К.Л. Актуальность и интертекстуальность в живописи Эдуарда Мане // Academia. 2020. № 1. С. 15–32. DOI: 10.37953 / 2079‑0341‑2020‑1‑1-15-32
Actuality and intertextuality in the painting of Edouard Manet
Krassimira L. Loukitcheva
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; loukichevakl@rah.ru
Abstract:
In this article, the painting of Edouard Manet is traditionally considered as a new set of pictorial means representing actual life and the perspective of the development of contemporary art; and as a dialogue with the art of old masters, in which there is a destruction of the classical type of mimesis and the birth of picture’s new status. But here, the emphasis is different: the novelty and significance of his painting are predetermined not by changing social environment directly, they are born of a new visual discourse of Manet’s time, responding to the challenge presented by a new stage in the development of art, and its new role in stratification of culture.
Keywords:
Edouard Manet, actuality, intertextuality, classic art, modern art, painting experiment, mimesis, picture, reality’s representation.
For citation:
Loukitcheva, K.L. (2020), “Actuality and intertextuality in the painting of Edouard Manet”, Academia, 2020, no 1, pp. 15–32. DOI: 10.37953 / 2079‑0341‑2020‑1‑1-15-32
Введение
На фоне хорошо известных исторических обстоятельств восприятия и оценки современниками творчества Эдуарда Мане выделяется факт, который хотелось бы сейчас подчеркнуть: фактически еще при жизни художника были заданы те два ракурса, вокруг которых в основном группировались последующие подходы и взгляды. Тема современности в живописи мастера и его внутренний художественный диалог с классическим искусством могли восприниматься как признаки упадка и разрушения или, наоборот, как средства обновления системы европейской живописи, но они привлекли к себе внимание критики сразу, и их значение для интерпретации искусства Мане сохраняется до сих пор. Более того, за последние десятилетия именно в них были найдены стимулы и основания для применения современных исследовательских стратегий в сфере истории искусства, которые способствовали ее обновлению и интеграции в структуру гуманитарного знания, сформировавшуюся в конце XX — начале XXI столетия. Дважды — и на стадии формирования модернистской художественной критики, и когда ей на смену приходит постмодернистская научная парадигма, — творчество Мане оказывается в центре этих процессов. Это еще одно измерение диапазона новизны его искусства, способного стимулировать и продуцировать новые повороты критической рефлексии. Поэтому отнюдь не случайно, что восприимчивыми к нему становились именно создатели оригинальных направлений, такие как Шарль Бодлер, Эмиль Золя, Стефан Малларме. В середине прошлого столетия к творчеству Мане обращается один из самых самобытных и влиятельных мыслителей – Жорж Батай [Bataille 1955]. Значение особой «экспериментальной лаборатории» живопись Мане приобретает с 80-х годов XX века, оказавшись в центре внимания новых эпистемологических тенденций, которые в области истории искусства тогда только формировались[1], и не утрачивает его и по сей день. В 2011 году на русский язык была переведена книга Мишеля Фуко — она представляет собой публикацию его лекции, содержащей анализ ряда важнейших произведений художника [Фуко 2011][2]. Кроме текста самого Фуко, в ней помещены статьи крупных исследователей, посвященные актуальным, с точки зрения новых методологических стратегий, аспектам искусства Мане. Среди них в рассматриваемом здесь контексте особый интерес представляет работа Т. Де Дюва [Дюв 2011].
Образ современности в живописи Мане

Бар в Фоли-Бержер. 1882. Холст, масло. 96 х 130
Галерея искусства Курто, Лондон
Конечно, в пространстве научной интерпретации эти две темы занимают неравное положение. Исследователи гораздо больше внимания уделяли тому, как складывалась в искусстве французского мастера живописная система, способная адекватно изобразить современность. Но дело в том, что с этой проблемой неразрывно связана и вторая, поскольку для Мане диалог с искусством старых мастеров является одним из средств интерпретации современности[3]. Таким образом, для целостного понимания его творчества принципиальное значение имеет как самостоятельное и самоценное развитие каждой из этих двух тем, так и их коррелятивная соотнесенность. И то, и другое связано с выявлением специфики содержания и смысла двух концептов, описывающих авторскую позицию (как таковую) в отношении пространственно-временных координат социокультурного процесса — актуальности и интертекстуальности.
Картина, которую Эдуард Мане создал в конце своей жизни, стала квинтэссенцией того напряженного визуального осмысления классического наследия, которым наполнено его творчество, но одновременно с тем она подытожила визуальное освоение им окружающей действительности.
В этом плане, «Бар в Фоли-Бержер» (ил. 1[4]), как и другие, подобные этому, полотна Мане, безусловно, относится к ярчайшим элементам мозаики, из которой в искусстве той эпохи складывается отражение формирующейся новой социокультурной парадигмы. Особенно чуткий к своему времени Шарль Бодлер в знаменитом эссе «Художник современной жизни»[5][Бодлер 1986] одним из первых находит слова и образы для описания пространственно-временного континуума, называемого современностью[6]. Именно Бодлер способствует тому, что уже родившийся для его обозначения термин moderne прочно вошел в оборот[7]. Кроме того, Бодлер определяет основные параметры противопоставления нового и старого, moderne и классического, и на примере творчества Константина Гиcа выявляет те новые ракурсы (и средства их выражения), с которых искусство начинает всматриваться в современную жизнь. И хотя в этом контексте автор не говорит о Мане, а многие яркие произведения художника, посвященные современности, появляются только после смерти поэта, но именно Бодлер выработал те подходы, в свете которых критики разных взглядов и позиций назовут Эдуарда Мане художником современности, именно в этом направлении будет простираться его влияние, начнется формирование концепций нового искусства.
Т.Дж. Кларк [Clark 1984] сделал одну из самых серьезных и авторитетных попыток дать более точную дефиницию визуальной риторики в творчестве Мане. Картине «Бар в Фоли-Бержер» в контексте рассуждений Кларка отводится ведущее место. Автор рассматривает ее как одно из самых значительных полотен, в котором запечатлен дискурс повседневной жизни Парижа[8]. И здесь ключевым становится термин «Париж». Другими словами — это не любая повседневность, и тем более — не современность вообще. Это — конкретный, локальный ее вариант. Да, бесспорно, на тот момент это ярчайший вариант современности, провоцирующий подражание себе, воспринимаемый и воспринимающий себя как центр культурной вселенной, как явление космополитического масштаба. Но это — Париж, а не Рим или Берлин, и хотя это очень банальное утверждение, но, может быть на него и стоит обратить внимание, для того чтобы всмотреться и уловить ускользающие от нашего восприятия бесконечные нюансы и разветвления глубокой перспективы в Картине повседневности, созданной Мане. Другое дело, что его видение, имеющее такую репрезентативную укорененность, обладает при этом парадигмальным характером и становится символом наступающей новой эпохи, названной современностью. Только это символ иного, неклассического порядка[9] — символ, не отсылающий к иной, метафизической сфере концептов, а локализованный в фрагментах жизненного процесса, которые обретают тотальный смысл именно в своей заурядности, незначительности, случайности.
Структура живописного пространства в «Баре в Фоли-Бержер»
«Бар в Фоли-Бержер» отличается сложным и тщательно продуманным композиционно-пространственным решением[10], которое, в первую очередь, привлекает к себе внимание исследователей. Сразу следует подчеркнуть, что интерпретация сюжета, предпринятая в статье, исходит из того традиционно сложившегося «прочтения» представленных в картине образов, которого придерживается подавляющее большинство авторов[11]. Суть заключается в том, что мужчина и женщина, изображенные справа на холсте в виде отражения в зеркале, — это показанная со спины барменша с переднего плана и мужчина, на которого она смотрит. Находясь перед ней, он занимает место зрителя, стоящего перед полотном, и в силу этого не представлен в картине напрямую, а лишь отражается в зеркале. Таким образом очевидно, что живописное пространство выстроено художником с двух точек зрения. Основная пространственная зона изображена фронтально, ее направляющие линии (стол, на который опирается девушка, рама зеркала и стена за ее спиной, парапет и стена балкона, отраженные в зеркале) развиваются параллельно друг к другу и к плоскости холста. Пространство предстает таким, каким видит его мужчина, разговаривающий с девушкой. Зритель, смотрящий на картину, видит ровно столько, сколько видит этот персонаж. Именно через его взгляд воспринимается зрителем, нами, всё – и пространственные характеристики, и отражение в зеркале невидимой для нас части зала, и, главное, образ девушки на переднем плане.

Вторая точка зрения (условно ее можно назвать пока авторской) — та, что вводит в изображенное пространство фигуру девушки, увиденную со спины, слегка развернутую слева направо, и фигуру мужчины, данную в трехчетвертном повороте. Обе фигуры показаны через их отражение в зеркале (ил. 3).
Точка зрения, позволившая нам увидеть лицо мужчины и его выражение, условно размещена по эту сторону стола и смещена заметно левее по отношению к центру картины. Художник использует этот прием для того, чтобы образ мужчины попал в картину таким, каким видит его девушка (ил. 2).

Соединяя обе точки зрения в цельное пространство, Мане предлагает оригинальный способ изображения ситуации диалога, которая смоделирована в картине дважды – каждый ее участник представлен зрителю так, как воспринимает его собеседник. То, что выше было названо авторской точкой зрения, на самом деле выполняет в картине чисто техническую роль. Представляя каждого персонажа глазами его визави, Мане, по сути, добивается как бы вытеснения авторской рефлексии. Он словно «самоустраняется», поручив конструирование пространства зеркалу и глазам своих героев. Таким образом, художник создает квазиавторепрезентацию абсолютно обыденной, как в калейдоскопе повторяющейся бесчисленное множество раз картины. Ее герои не имеют значения сами по себе, они не автономны и обретают смысл только в двойном контексте ситуации: пространственном (действие происходит в кафе-шантане Фоли-Бержер) и процессуальном, временном (состояние диалога). Завершенность этой авторепрезентации придает явно доминирующая категория случайности. Мы видим обыденное, ординарное событие, чья мимолетность подчеркнута фрагментарностью, ситуационным раздвоением, размещением его наполовину в реальном, наполовину в иллюзорном зеркальном пространстве. Обе половины «блуждают» в мире картины, обреченные на прочтение и соединение только в зрительском восприятии, в акте видения, таком же случайном и необязательном, как они сами.
Авторские стратегии Мане в «Баре в Фоли-Бержер»
Формальные особенности композиционного построения в картине приобретают означивающие функции, благодаря чему достигается сильный парадоксальный эффект. Выразительная сила контраста между центральным, доминирующим положением женской фигуры и подчинением всех ее характеристик видению и восприятию мужчины[12], который присутствует здесь лишь иллюзорно, вызывает сильнейшую инверсию смысла. Иллюзорной и недействительной становится сама эта доминанта, а мерцающий в глубине зеркала, на самом краю картинного пространства образ вдруг приобретает властную риторику. Все это в целом выводит картину на иной смысловой уровень — на уровень визуальной репрезентации одного из аспектов дискурса власти: власти мужчины над женщиной. В композиции картины зрительно зафиксированы разнообразные нюансы этого аспекта, актуальные для современности Мане и относящиеся к одной из самых популярных тем в искусстве той эпохи — судьбе женщины полусвета.

Зеркало, концентрирующее в себе систему пространственных координат и цветовых характеристик и отбрасывающее их обратно в визуальную реальность картины (ил. 4), становится главным аргументом в создании иллюзии самоустранения автора, растворения авторского кода в спонтанной саморепрезентации вырванного из калейдоскопического круговорота фрагмента. Такая позиция и заданная ей в качестве цели иллюзия отсутствия авторского кода до поры до времени действительно заставляют видеть аналогию с тем качеством нарратива натуралистической новеллы, которое Л. Вайнгарден совершенно справедливо назвал энтропией, рассматриваемой в качестве метатемы этого нарратива [Weingarden 1998]. Однако это сходство поверхностно и иллюзорно, потому что за таким авторским поведением скрывается императив авторской воли. Картину «Бар в Фоли-Бержер», как и в целом творчество Мане, отличает сильнейшая авторская, подчеркнуто индивидуальная[13] стратегия. Этим объясняется разница в приемах визуальной репрезентации нарратива повседневности, типичных, с одной стороны, для Мане, с другой — для такого художника, как Константин Гис[14]. При некотором сходстве подходов к современности, основанном на стремлении к точной передаче визуального впечатления, для Гиса эта точная передача является и конечной целью, и средством собственной творческой реализации. Он следует за видимостью, за зрительным восприятием, и именно оно становится подлинным субъектом творческого акта. В то же время за видимой энтропией повседневной жизни в картинах Мане стоит сознательная глубочайшая трансформация всей системы живописи, направленная на создание эквивалентных художественных средств, если можно так выразиться, средств второго порядка[15], для ее воплощения.
Как уже отмечалось, в картине изображены две пространственные зоны: одна является частью реального пространства (изображение пространства) (ил. 4), а в другой разместилось изображение отраженного в зеркале интерьера (изображение отображения, удвоение пространства) (ил. 5). удвоение пространства) (ил. 4). Манера изображения каждой из этих зон обладает своими особенностями — художник, по сути, применяет две изобразительные системы, близкие, но не совпадающие между собой. Живописная техника (манера работы кистью, характеристика живописной поверхности, свойства тональных гамм) меняется для того, чтобы передать фундаментальное онтологическое свойство того мира, визуальный эквивалент которого она создает. Передний план, резко придвинутый к зрителю, охватывает фрагмент поверхности стола, простирающийся от одного конца холста до другого (ил. 5).
На этом столе из обыденных предметов сгруппированы несколько великолепных натюрмортов. За ним находится стена, на красном фоне которой, параллельно поверхности стола, располагается золотистая рама зеркала. В этом узком промежутке «втиснута» фигура девушки, опирающейся руками о стол и внимающей мужчине. Все это — те материальные феномены, которые попадают на полотно в статусе живописных изображений реального мира, как результат и завершение классического творческого процесса. Связь с классической традицией и классической картиной сохраняется здесь именно на этом этапе манипуляции художником предметами реального мира, с целью извлечения из них бесчисленных и тончайших чисто живописных эффектов. Предметы бара вместе с фигурой девушки образуют ясно выделенную зрительно пирамиду, три крайние точки которой зафиксированы золотистым цветом фольги на горлышках бутылок и волос девушки. Данный композиционный прием четко структурирует пространство переднего плана, подчеркивая его масштаб, целостность и незначительную глубину.

Этот холст демонстрирует одну из самых виртуозных работ Мане с черным цветом, глубина и чистота которого на жакете девушки и бархотке вокруг ее шеи подчеркнуты и усилены двумя нейтральными тональными гаммами — серой (платье) и серо-белой (поверхности стола). Уже говорилось, что каждая группа предметов слева и справа представляет собой самоценные, превосходно написанные натюрморты, но вместе с тем они прочно соединены между собой сходством форм и цвета. Напряжение этого соединения, вызванное удвоением сильных цветовых доминант (темно-оливковых, малиновых, золотистых), тает в холодных прозрачных отблесках натюрморта из стеклянных предметов (ваза с цветами, ваза с апельсинами, графин).
Кисть живописца лепит формы, принадлежащие реальному миру, плотной, глубокой по тону краской. Цвет моделирует объемы, передавая их вещественность и осязаемость, но художник при этом не снимает ощущения ее собственной природы, выявляет ее непричастность к их подлинному бытию. Он пристально, в упор всматривается в натуру, «ощупывая» взглядом ту грань, где разыгрывается процесс постоянного взаимообмена между телом человека (или предметом) и окружающей его средой. Живописное изображение девушки соткано из множества оттенков цвета, света, тканей, обнаженной поверхности тела. Кисть фиксирует тени, которые отбрасывают рукава и жакет, тонко прорисовывает орнамент на белых кружевах, сквозь которые просвечивает черная ткань платья.
Но с переходом за грань реального мира, туда, где кончается его изображение и начинается изображение зеркального отражения, меняется как фокус видения, так и живописная трактовка этой новой — виртуальной — реальности. Изменения визуальных характеристик наступают постепенно, и они почти не ощутимы в манере, в которой написано зеркальное отображение стола и расставленных на нем бутылок (ил. 6).

Но уже в изображениях девушки и мужчины виден иной принцип работы кистью. Моделировка формы утрачивает ту степень четкости, определенности, замкнутости очертаний, которая присуща переднему плану. Цвет теряет глубину и плотность, становится менее концентрированным из-за добавления белил. Чем дальше вглубь зеркала уходит изображение, тем меньше кисть моделирует форму, тем больше ею художник просто и откровенно наносит на холст мазки и мелкие цветовые пятна (ил. 7).
Но эти, казалось бы, лишенные изобразительной функции элементы, сливаясь, создают иллюзию изображения[16], точно так же, как зеркало создает иллюзию пространства. Этот иллюзорный мир обступает, охватывает со всех сторон изображение реального. Таким образом, к каждой из изображенных реальностей — физической и виртуальной — художник применяет оптику, фокус зрения, специфические для нее, и изобразительную систему, адекватную ее природе. Существенно то, что эта адекватность достигается не путем подражания, не имитацией, а выявлением метафорического изоморфизма между разными онтологическими качествами, с одной стороны, и разными способами аранжировки живописных элементов, с другой.

Живописная поверхность холста несет в себе множество других свидетельств глубочайшей продуманности и структурированности композиционных и цветовых характеристик картины. Их обнаружение и осознание приводит к пониманию еще одного удивительного парадокса, составляющего смысл этого произведения. Этот парадокс развивается на двух уровнях: выбора мотива и выбора средств его реализации. С одной стороны, мотив предстает фрагментарным и случайным, а цель его реализации – создать впечатление натурной зарисовки. Но, с другой стороны, Мане добивается ощущения удивительной полноты и целостности образа современной жизни, репрезентация которого подчинена условным художественным нормам и закономерностям. Это прежде всего картина, в которой риторика визуального преломляется через особый угол отражения — эстетические законы искусства живописи.
«Бар в Фоли-Бержер» и формирование новой художественной парадигмы
Эти особенности подводят к важным смысловым нюансам, обозначающим более точно место, отведенное «Бару в Фоли-Бержер» в общей эволюции живописи от XIX к XX столетию. Они касаются изменений, которые в это время начинают регулировать тот аспект риторики визуального и вербального, чья актуальность не только предопределена спецификой новоевропейской культурной парадигмы, но и выражает эту специфику ярко и глубоко. Конституирование сферы искусства, его профессионализация, определение его статуса, видового и жанрового строения, аксиологического подхода к процессам творчества и восприятия сделали из взаимоотношений литературы и живописи один из особо выразительных в плане динамики новоевропейской культуры дискурса. Трансформация ее природы в XIX столетии радикально меняет взаимоотношения между литературой и живописью.
Частые попытки доказать изоморфный характер дискурсивных практик натуралистического романа XIX века и живописи Эдуарда Мане[17], с точки зрения средств визуализации и вербализации черт складывающейся парадигмы современности, как представляется, основываются только на внешнем сходстве. Но по существу совпадение интенций (направленность на освоение современности) уже не способствует преодолению глубоких различий, которые их разделяют. И самое существенное из них заключается в том, что структура картины Мане разрушает категорию сюжета — главную структурообразующую категорию любого романа, в том числе и натуралистического[18]. Ситуация диалога между мужчиной и женщиной, которая могла бы стать источником нарратива, как уже упоминалось выше, подвергнута деструкции, разорвана надвое, и составляющие ее элементы размещены в пространственных зонах, принципиально разных в онтологическом плане. Фактически мы видим не сам диалог, а его «блуждающий» в иллюзорном пространстве след. Композиция построена на чистых визуальных структурах, вытесняющих нарратив, исключающих аналогии с театром. Эдуард Мане «пропускает» энтропию повседневности через эти структуры и в этом процессе вырабатывается метаязык «новой живописи». В 1870-е – начале 1880-х годов художник выступает одновременно и создателем, и носителем этого метаязыка. В произведениях мастера стремительно развивается генезис дискурса современного искусства. Это утверждение связано с актуальным состоянием западноевропейской культуры и означает, что формирование в ее существующих рамках профессионального и социального статуса этого рода деятельности и ее субъекта достигло определенного порога, за которым начинается его новое состояние. В Париже того времени институализация искусства обрела наиболее полноценные и разнообразные формы: уже вполне сложились и активно функционировали основные институты, осуществляющие взаимообмен между художником, обществом и государством в самых разных срезах — профессиональном, коммерческом, коммуникативном, репрезентативном. Таким образом, с одной стороны, завершилось длящееся на протяжении эпохи Нового времени конституирование сферы искусства, выработка глубинных механизмов самоопределения, содержащихся в ней. С другой стороны, она оказалась отнюдь не «вещью в себе», потому что ее пронизывали бесчисленные субъектно-объектные и субъектно-субъектные нити-связи, превращающие ее в существенный функциональный элемент тотальной картины эпохи.
Естественно, что предельное развитие процессов конституирования и профессионализации искусства обусловило соответствующий уровень профессионального самосознания как художника-индивидуума, так и профессионального сообщества. Это влечет за собой, во-первых, независимое поведение творческого субъекта, проявляющееся в виде двусторонней эмансипации: художник дистанцируется одновременно и от общественного мнения, и от официально установленных профессиональным сообществом, облеченным властью, норм и правил творчества, следуя собственным взглядам и убеждениям, отстаивая право на личностное видение целей и задач искусства[19]. Во-вторых, позиционирование художника внутри искусства (как в самовосприятии, так и в восприятии его обществом) стимулирует недостижимую ранее спецификацию видов искусства. Для живописи это означает, прежде всего, выстраивание принципиально иного содержания ее многовекового диалога с литературой, означающего освобождение от «иллюстративных» функций в широком смысле слова, преодоление нарративной риторики, деконструкция в целях эксперимента тех элементов собственного языка, которые были носителями миметического дискурса. Но важно еще раз подчеркнуть – в эпоху Мане и постимпрессионизма все это остается замкнутым в сфере искусства и ради искусства. В этом специфика прагматики культуры времени.
Позиции искусства в аксиологическом плане не поколеблены и не поставлены под сомнение, но дифференцированы и соотнесены с тем, что тогда стало казаться его имманентной природой, освобожденной и очищенной от внеположенных ей функций. Такая последовательная редукция сводит смысловое пространство живописи в рамках ее диалога с реальностью к одному измерению — визуальному[20]. За этим сжатием пространства, в котором ранее традиционно развертывались смыслы, значения, символы, аллегории (их референты зачастую располагались и вне сферы живописи, и вне сферы реальности), стоит понимание (неважно, интуитивное или нет) того, что визуальная данность есть результирующая взаимодействия всех модусов настоящего – и как таковая она эквивалент тотального соединения, столкновения, пересечения актуальных смыслов. «Удвоение» настоящего в живописи Мане только имитирует подчинение художественных средств основным чертам дискурса повседневной реальности (как одного из модусов потока времени) — хаотичности, случайности, фрагментарности и т.д. Это не более чем иллюзия изоморфности художественных средств, с одной стороны, и характеристик дискурса повседневности, с другой, однако достижение этой иллюзии является сознательной целью художника[21]. Реализованное такими средствами удвоение превращается в способ визуальной интерпретации настоящего. Это первый уровень отношения художника к повседневной реальности. На втором уровне, благодаря своим жестким композиционным приемам, картина не только фиксирует существенные черты повседневности, но вырывает их из жизненного потока, переводит в контекст искусства, где вступают в силу эстетические, аксиологические, гносеологические стратегии их рассматривания.
Уже упоминалось, что интерес живописи к специфике и возможностям собственного языка приобретает в это время особое значение, становясь платформой для ее эмансипации как от литературы, так и от иллюзионистического аспекта классического изображения. В современном искусстве Э. Мане реализует то, что вслед за Р. Бартом можно было бы назвать «живопись – наслаждение». В отличие от знаменитых произведений классической живописи (и здесь образцовым примером могут служить «Менины» Веласкеса), предполагающих неоднозначность, а, в сущности, бесконечность и неисчерпаемость на уровне смыслообразования и истолкования смыслов, абстрагированного от материальной природы живописных средств, в картинах Мане сами живописные средства образуют не застывшую, а постоянно самовоспроизводящуюся, находящуюся в процессе постоянного становления и разрушения «текстовую» среду. По воле зрителя, в зависимости от его состояния, подготовки, настроя на активное восприятие, источником наслаждения становятся то чистые элементы живописной техники (мазки и цветовые пятна, моделирующие форму, линии, охватывающие силуэт), то восприятие целостного, цельного образа.
В живописной технике Мане, в открытии, обнажении живописной поверхности скрыты существенные особенности нового, зарождающегося живописного языка. Во-первых, «манипуляции» живописной техникой – способ акцентировать вновь образовавшуюся дистанцию между живописью и литературой, репрезентировать значение ручного труда, сделанности для картины. Эта сделанность уже совсем другого плана, чем в классической картине, она не просто составляет оппозицию ее образцовой завершенности, но в своей противоположности обретает разрушительную силу, взрывающую классическую картину[22]. Новая картина сама раскрывает себя, в отличие от классического романа, поэмы, стихотворения, как материальный, обладающий физическими параметрами феномен, именно как картину, в буквальном и узком смысле состоящую из холста и нанесенных на него красок. И в этом качестве, в этой своей феноменальности, картина становится уникальной параллелью реальности, постоянно подчеркивающей дистанцию между собой и реальностью, провокационно демонстрируя, как и из чего она сделана.
Но, во-вторых, вектор трансформации живописной техники в творчестве Мане, направленный на преодоление ее «иллюстративных» и иллюзионистических функций, обнаруживает глубинное стадиальное, на уровне интенций, совпадение с определенными тенденциями в современной ему литературе. Цель сложнейшей артикуляции элементами живописного языка у Мане в том, чтобы освободить их потенциальные возможности для иного предназначения — для того, чтобы сравнение живописи с языком перестало быть метафорой, а приобрело буквальный смысл, для того, чтобы живопись сначала превратилась в новый визуальный язык, независимый от «синтаксиса» и «грамматики» визуальной реальности, на который затем можно было бы переложить «тексты» картины бытия и картины жизни[23]. Все это заставляет сравнивать Эдуарда Мане с другим великим новатором, современником и другом художника — Стефаном Малларме. Суть этого сравнения становится яснее, если обратиться к тому, как М. Фуко характеризует смысл новаторства Малларме: «Попытка Малларме замкнуть всякую возможную речь в хрупкую плоть слова, в эту вполне материальную тонкую чернильную линию, проведенную на бумаге, отвечает, по сути, на вопрос, который Ницше предписывал философии. Для Ницше речь шла не о том, чтобы знать, каковы добро и зло сами по себе, но о том, кто обозначается или, точнее, кто говорит… На этот ницшеанский вопрос — кто говорит? — Малларме отвечает вновь и вновь, что это говорит само слово в его одиночестве, в его хрупкой трепетности, в его небытии — не смысл слова, но его загадочное и непрочное бытие. В то время как Ницше, который отстаивал до конца свой вопрос о том, кто говорит, вторгается, наконец, вовнутрь этого вопрошания, чтобы дать ему самообоснование говорящего и вопрошающего субъекта («Се человек!»), — Малларме неустанно устраняет самого себя из своего собственного языка, соглашаясь остаться в нем простым исполнителем чистого обряда. Книги, в которой речь складывалась бы сама собой» [Foucault 1994, с. 327–328].
 Velazquez Prado.jpg)
Холст, масло. 318 х 276
Прадо, Мадрид
Диалог с классическим типом картины
Как показывает Фуко, описанные им процессы разрыва классической и выстраивания иной соотнесенности естественного языка и языка литературы коренятся гораздо глубже и обусловлены формированием современной культурной парадигмы. Именно поэтому типологически и функционально с ними сопоставима радикальная трансформация другой соотнесенности — между визуальностью реального мира и визуальностью живописи — в творчестве Мане. Два типа визуальности, которые до сих пор были связаны отношениями подобия, вступают в новые взаимоотношения, выстраивая тот фрагмент в дискурсе современности, в котором разворачивается история современного изобразительного искусства. Разлом регулирующих функций категории мимесиса сразу допускает (и предполагает!) многообразие этих новых взаимоотношений. В творчестве Мане возникает один из возможных вариантов, который, как представляется, впоследствии наиболее последовательно развивает в своем искусстве Поль Сезанн. Однако «Бар в Фоли-Бержер» демонстрирует то специфическое качество, отмеченное в начале, которое на всем творческом пути Мане остается одним из двух важнейших смыслопорождающих факторов. И снова речь о том, что вариант, предлагаемый Мане, реализуется в двух измерениях: в плоскости соотнесения реальных и живописных визуальных структур, и в плоскости сопряжения визуальных структур современной и классической картин.
Многие элементы и особенности композиционного построения «Бара» не только вызывают ассоциации с «Менинами» (ил. 10), но и формируют убеждение, что это сравнение задано самим автором. Оптика в картине Мане во многом выстроена как инверсия, как парафраза в отношении визуальных структур «Менин». Прежде всего, это касается логики развертывания картинного пространства и той роли, которую в нем выполняет зеркало. Деструкция классических структур и спрятанных за ними значений, предпринятая в картине XIX века, начинается с парадокса — с повтора одного из основных приемов Веласкеса, на котором акцентировал внимание Фуко в своем знаменитом анализе классического шедевра. Он отмечает, что зеркало в «Менинах» «отражает не то, что видимо» [Foucault, 1994 с. 39]. И точно такой же является функция зеркала в картине Мане. Но если там зеркало, занимающее скромное место в изображенном реальном пространстве, отражает лишь главных героев (ил. 11), то здесь именно (и только!) зеркало возвращает в картину не только главного героя, но и отражение вытесненного из нее реального пространства.
Зеркальный образ пространства становится альтернативой принципу мимесиса в классической картине, основанного на воспроизведении закономерностей зрительного восприятия. Есть ли в этом метафорическом воспроизведении природы классического подобия определенные коннотативные нюансы, следует ли из этого некая дискредитация классического образа? Кажется, что на этот вопрос можно ответить утвердительно и проблема личного отношения Мане к творчеству Веласкеса здесь ни при чем. В позднем XIX столетии весь визуальный строй окружающего мира, его зрительно воспринимаемые образы и фрагменты представали глазу настолько другими, что критический взгляд, переоценка, а затем и разрушение классических норм под их давлением стали неизбежными.

Изображение реального трехмерного пространства по законам зрительного восприятия снимает саму проблему восприятия пространства в картине как таковую, — оно словно само настаивает на своей естественности, на определении своих характеристик, выражаясь современным языком, по умолчанию. Таким образом, актуализируется взаиморасположение и соотношение персонажей между собой, что и становится содержательной проблемой произведения. Именно в этом плане Фуко в своем анализе «Менин» говорит о королевской чете, как о субъекте картины, который, оставаясь за пределами картинного пространства, организует вокруг себя и композиционное и смысловое поле [Foucault, 1994 с. 53]. В этом смысле субъективность художника уходит на задний план, становясь лишь средством реализации властных функций классического дискурса европейской культуры, чистую визуализацию которого Фуко обнаруживает в знаменитом холсте. Именно в этом ракурсе проявляется смысл усилий Мане. Он полемизирует с системой классического изображения, трансформирует ее основные параметры, по-иному выстраивает отношения между основными элементами внутри картинного пространства, между картиной и зрителем, созерцающим ее из реального мира. Это связано со сложением неклассических визуальных форм, определяющих дискурс современного искусства, в контексте которого в первую очередь пересматривается роль художника. Выше уже говорилось о сильной авторской позиции французского мастера. Сейчас это положение можно уточнить и связать с процессами смены культурных парадигм, отразившимися здесь. Фуко рассматривает пространственное построение классического шедевра Веласкеса как креативный акт, создающий слепок реального мира в многогранной полноте его характеристик: эстетических, этических, социальных. Таким образом, миссия творца в «Менинах» заключается в совершенном воспроизведении реальных, визуально воспринимаемых качеств действительности. Пространственное построение «Бара» демонстрирует, как креативные функции (как творца мира картины) полностью переходят к художнику, контролируются им. И происходит «переформатирование» его интенций. Принципы соединения двух точек зрения в композиции картины несовместимы с естественным восприятием. Их совмещение в реальном зрительном акте, невозможно ни при каких обстоятельствах. Это делает живописца подлинным субъектом картины, ее властным и организующим центром, ее креативной субстанцией. Трансформация роли художника в этом направлении открывает перспективу развития всего искусства авангарда.
Полемическая острота картины Мане в адрес визуальных структур классического искусства зрительно фиксирует изменения социокультурной стратификации, в которой искусство приобрело и новое место, и новые функции. Сравнение двух великих картин в этом контексте намечено в уже упомянутой работе С. Альперс. Автор, ссылаясь на социальный статус Веласкеса и его роль при испанском дворе для объяснения смысла «Менин», касается различий в этом плане между двумя художниками: «Его искусство (Веласкеса. — К.Л.) можно в этом смысле сопоставить с творчеством Мане. Этот французский живописец XIX века, который восхищается Веласкесом больше, чем любым другим художником, не имел ни двора, ни твердой веры Веласкеса в репрезентативное (курсив мой. — К.Л.) искусство. Сам характер живописной фактуры Мане демонстрирует это» [Alpers 1983, p. 42].
Категория интертекстуальности у Мане

Холст, масло. 130,5 х 190. Музей Орсэ, Париж.
Диалог этих двух картин в основном уже намечает границы интертекстуальности[24] в живописи Мане. И здесь его новаторство проявляется в полной мере — художнику удается радикально изменить
один из самых традиционных аспектов европейского искусства. Речь идет о деструктивных усилиях Мане, направленных на дискредитацию программного и нормативного обращения в искусстве Нового времени к произведениям и художникам, признанным классическими и образцовыми. Подчинение нормам, ориентация на классический образец, как культурная установка, относятся к парадигмальным характеристикам[25] самой культуры. Они погружают произведение в глубину многообразных связей и отношений, где наряду с визуальными, образцовыми кодами в его ткани переплетаются текстуальные нити. Они восходят к определенной совокупной сфере текстов, конституированных европейской культурой как смыслопорождающие, и актуализируют их. Ретроспективизм, заложенный в этой программе, предопределял отсутствие резонанса к современности. И в целом, поскольку эта сфера долго оставалась закрытой и непроницаемой, ее расширение в сторону современности в последние десятилетия XIX века выглядело подобным взрыву.
Мане вступает в полемику с этой априорной интертекстуальностью, заданной властной риторикой классического дискурса. Одним из способов дискредитации и того, и другого становится своего рода игра художника с традиционными визуальными кодами, сбрасывание толщи текстуальных перекличек и ассоциаций за счет резкой перемены контекстов. В этом ключе, как представляется, формируется смысловое поле его картины «Олимпия» (ил. 9)[26].
Картина встроена в очевидный типологический ряд, восходящий к произведениям таких художников как Джорджоне, Тициан, Веласкес, который она собственно и завершает, как в изобразительном, так и в семантическом аспектах[27]. Деструкция концепции и живописной техники классического образа, предпринятая Мане, вытесняет из содержательного плана картины все элементы, сохраняющие ассоциативные связи с мифологическим контекстом. Но дело в том, что подобное очищение изобразительного мотива от мифологических коннотаций уже имело место в творчестве Гойи, и в этом смысле его «Маха обнаженная» (ил. 8), конечно, предвосхищает «Олимпию». Оба мастера противопоставляют присущей классической картине мотивации изображения обнаженной женской фигуры библейским или античным сюжетом иной подход. Но их сравнение выявляет разные цели и разные художественные стратегии. Подход Гойи может быть назван чистой редукцией. Он радикально отсекает все дополнительные смысловые нюансы, оставляя зрителя наедине с изображением обнаженного женского тела. Женское тело должно предстать в картине во всей своей «телесности». Для этого художник использует возможности классической живописной техники, активизирует всю «натуралистическую» мощь своей гениальной кисти. Живописное пространство сужено и вмещает только диван и лежащую на его подушках фигуру на нейтральном, лишенном деталей фоне. Формат картины, узкий и довольно сильно вытянутый по горизонтали, подчеркивает это новое содержание, которое из мифологического переведено в экзистенциальное пространство.
Мане раздвигает формат картины по вертикали[28], «впуская» еще одного персонажа (служанку) и разрабатывая антураж (появляются детали и орнамент тканей, украшения и обувь Олимпии, кошка, занавес и т.д.). Таким образом, вместо строгой редукции Гойи, возникает полемическое пространство, полное иронических аллюзий в отношении классической репрезентации богини любви. Одновременно оно раскрывается в сторону современной жизни в ее повседневном аспекте.

Ок. 1797—1800
Холст, масло. 97 х 190. Прадо, Мадрид.
Нарочитое вытеснение или переосмысление атрибутов, способных напрямую связать изображение с мифологическими смыслами, оставляет тот глубокий след[29], который вновь и вновь возвращает их в другое пространство — ментальное пространство восприятия, заставляя зрителя постоянно сравнивать в своей памяти мифологический и современный образы. Вся идентичность «Олимпии» реализуется здесь, в этом новом для европейской культуры пространстве, границы которого впервые очерчиваются в творчестве Мане. Смыслы, его наполняющие, формируются в диалоге классических репрезентативных структур и визуальных моделей с современным контекстом во всей его специфике[30].

Эскиз к картине
В нем встречаются два нарратива: европейской культурной традиции и реалий современной жизни. Напряжение, возникающее в результате совмещения несовместимых визуальных кодов, трансформирует изобразительную систему. Сложность состоит в том, что один из этих кодов целиком принадлежит сфере искусства, соотносится с отточенной и рафинированной традицией, тогда как второй, если и подвергался эстетической переработке, то только в сфере моды и вкуса, но не высокого, профессионального искусства. Этот конфликт разрешается художником отчасти «брутальными» средствами: Мане резко обостряет рисунок, выпрямляет основные композиционные оси (вертикаль — горизонталь) и плоскости, упрощает живописную технику. Резкость, плоскостность, граненность композиционного построения, упрощенность рисунка, составляют единое звучание, которое входит в диссонанс с изысканностью и утонченностью, аристократизмом цветовых соотношений. Однако и сами цветовые соотношения радикально изменились, они переведены в колоризм неклассического плана, открывающий материальную природу краски и границы живописи [Clark 1984, p. 138]. Специфика нарастающей самоценности цвета у Мане в том, что цвет все больше становится функцией краски как таковой, постепенно приобретающей субстанциальные свойства.
Преобладание плоскостности в пространственном решении картины, на которое указывают исследователи, обусловлено именно этим новым пониманием функций цвета. Из обобщенных цветовых плоскостей художник извлекает основные колористические эффекты и акценты: в первую очередь самое общее, основное противопоставление темного, глубокого фона и светлого, почти яркого переднего плана; градации белого цвета; сияние золотистых тонов; тональные переходы красного от темного красно-коричневого до светло-розового и многие другие. Картина действительно тяготеет к плоскости, по крайней мере, эта тенденция выражена яснее и определеннее, чем во многих других произведениях Мане. Но и здесь нет последовательного вытеснения пространственной глубины (такой прием вообще не свойствен художнику). То, от чего живописец здесь отказывается, это перспективный разворот пространства. Вместо него – сложные цветовые соотношения и противопоставления, которые втягивают глаз зрителя, заманивают его в глубину цвета. Тело Олимпии расположено не параллельно плоскости холста, а в легком диагональном повороте, который оптически углубляется за счет того, что слева кусок простыни приподнят и подогнут под подушку. Он открывает цвет обивки дивана, который перекликается с близким ему по тону фоном, что заставляет белый цвет простыней и подушек и светлый тон тела звучать еще сильнее, излучать яркое сияние. В эту цветовую палитру втягивается оливково-зеленый тон занавеса вверху слева, написанного объемно и пластично поверх фона. Не менее сложные цветовые и тональные модуляции развернуты и в правой части полотна, где письмо темным по темному перебивается контрастными переходами к белому и светло-розовому.
Заключение
Новизна художественных приемов и решений, разрушение устоявшихся визуальных и смысловых формул, предпринятые в «Олимпии», направлены, прежде всего, на полемику с дискурсом классического искусства, однако эта полемика соединяется здесь, как и в «Баре», с эстетическим структурированием зрительных реалий современности. В рамках этой авторской программы может показаться, что визуальный «текст» «Олимпии» остается индифферентным к множеству произведений на мифологические темы, созданных в русле академического искусства XIX века, где основным мотивом является изображение обнаженной женской натуры[31]. Эта внешняя непроницаемость художественных интенций Мане для академических стереотипов спровоцирована косностью программного ретроспективизма, заложенного в академическом искусстве. Но очевидно, что само стремление художника к его преодолению привносит специфический смысл в многообразные формы интертекстуальности, свойственные этой эпохе. Редукция классической картины, заложенная в основу творческого процесса создания «Олимпии», предопределена и этой внутренней полемикой, стремлением к преодолению стереотипных художественных решений, типичных для академизма.
До сих пор, при рассмотрении функций интертекстуальности[32] в творчестве Мане, акцент преимущественно делался на деструктивных последствиях для классической станковой картины применения ее оптики в визуальном освоении и отображении калейдоскопических событий реальной жизни. Но эти эффекты, запускающие механизм создания современного искусства, присущи далеко не только его полотнам. Поэтому тем более необходимо еще раз подчеркнуть оригинальность и уникальность живописной стратегии Мане, бегло уже затронутых выше. Их суть в том, что диалог художника с искусством старых мастеров отчетливо преследует (и достигает) еще одну цель. Применение изобразительных структур, осененных статусом классичности, в тех самых процессах освоения и отображения реальной жизни, поднимает на иной аксиологический уровень образы современности. Мане «говорит» о своей современности, в том числе и о неприглядных ее сторонах, языком высокого искусства, обладающего бесспорной художественной ценностью, таким нетривиальным способом доказывая право повседневной реальности на попадание в его орбиту, на вторжение в сферу, которую академизм перед ней закрывал.
Литература
- Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. C. 415.
- Бодлер Ш. Поэт современной жизни //Шарль Бодлер. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 283–315.
- Дюв Т. де. Ах! Мане!.. Как Мане сконструировал «Бар в Фоли-Бержер» // Фуко М. Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль. С. 121–149.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 327–328.
- Фуко М. Живопись Мане. СПб.: Владимир Даль, 2011. C. 232.
- Alpers S. Interpretation without Representation, or The Viewing of Las Meninas // Representations. 1983. V. 1. P. 31–42. DOI: 10.2307/3043758.
- Bataille G. Manet. Genève: Skira, 1955.
- Clark T.J. The painting of modern life. Paris in the art of Manet and his followers. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Twelve Views of Manet’s Bar / Collins B.R., (ed.) Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996.
- Daix P. La vie de peintre d’Edouard Manet. Paris: Fayard, 1983.
- Daix P. Pour une histoire culturelle de l’art moderne: de David a Cezanne. Paris: Odile Jacob, 1998.
- Fried M. Manet’s modernism, or, The face of painting in the 1860s. Chicago, London: University of Chicago Press, 1996.
- Reff Th. Manet and modern Paris. Washington: National Gallery of Art, 1982.
- Manet’s Le Dejeuner sur l’herbe / Tucker P.H., (ed.) Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Weingarden L.S. Art Historical Iconography and Word & Image Studies: Manet’s A Bar at the Folies-Bergère and the Naturalist Novel // The Pictured Word: Word & Image Interactions 2. Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1998. P. 49–63.
References
- Adorno, T. (2001), Esteticheskaya teoriya [Aesthetic theory], Respublika, Moscow, 2001, p. 415.
- Baudelaire, Ch. “Poet sovremennoy zhizni” [Poet of modern life], Baudelaire, Ch. Ob iskusstve [About art], Iskusstvo, Moscow, 1986, pp. 283–315.
- Duve, Th. de, “Akh! Mane!.. Kak Mane skonstruiroval Bar at the Folies-Bergère” [Oh! Manet!.. How Manet designed the Bar at the Folies-Bergère], Foucault, M. (2011), Zhivopis Mane [La peinture de Manet], Vladimir Dal, St Petersburg, pp. 121–149.
- Foucault, M. (2011), Zhivopis Mane [La peinture de Manet], Vladimir Dal, St Petersburg.
- Foucault, M. (1994), Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk [Words and things. Archeology of the humanities], A-cad, St Petersburg, pp. 327–328.
- Alpers, S. (1983), “Interpretation without Representation, or The Viewing of Las Meninas”, Representations, vol. 1, pp. 31–42. DOI: 10.2307/3043758p. 35.
- Bataille, G. (1955), Manet, Skira, Genève.
- Clark, T.J. (1984), The painting of modern life. Paris in the art of Manet and his followers, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Collins, B.R., (ed.) (1996), Twelve Views of Manet’s Bar, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Daix, P. (1983), La vie de peintre d’Edouard Manet, Paris: Fayard.
- Daix, P. (1998), Pour une histoire culturelle de l’art moderne: de David a Cezanne, Odile Jacob, Paris.
- Fried, M. (1996), Manet’s modernism, or, The face of painting in the 1860s, University of Chicago Press, Chicago, London.
- Reff, Th. (1982), Manet and the modern Paris, National Gallery of Art, Washington.
- Tucker, P.H. (ed.) (1998), Manet’s Le Dejeuner sur l’herbe, Cambridge University Press, Cambridge.
- Weingarden, L.S., (1998), “Art Historical Iconography and Word & Image Studies: Manet’s A Bar at the Folies-Bergère and the Naturalist Novel”, The Pictured Word: Word & Image Interactions 2, Rodopi, Amsterdam, Atlanta, pp. 49–63.
[1] Приведу здесь лишь несколько примеров, связанных с перспективными направлениями научной мысли. Среди них — так называемая социальная история искусства, представленная, прежде всего, в трудах Т.Дж. Кларка [Clark 1984] и Т. Реффа [Reff 1982]. Во второй половине 90-х годов появляются две работы, которые представляют собой методологический эксперимент. Первая — «12 взглядов на Бар в Фоли-Бержер» [Collins (ed.) 1996] — была издана в серии Принстонского университета, посвященной искусству, культуре и обществу XIX века (The Princeton series in nineteenth-century art, culture and society). В ней на примере картины Мане «Бар в Фоли-Бержер» раскрывается интерпретативный потенциал разных методологических подходов: от традиционных искусствоведческих до разнообразных постмодернистских (гендерный анализ, психоанализ в духе Лакана, семиотический и дискурсивный анализ и т.д). Вторая книга раскрывает в таком же контексте свой методологический диапазон для анализа картины «Завтрак на траве» [Tucker (ed.) 1998]. Анализ специфического дискурса живописи Мане, предпринятый в книге М. Фрида, позволяет глубже увидеть многомерность внутренних и внешних связей разных сторон творчества художника, трансформирующих систему формально-композиционных приемов классической живописи [Fried 1996]. В этот ряд инновационных работ следует поставить и труд П. Де, посвященный контекстуальному анализу жизни Мане как художника [Daix 1983], и его же определение места художника в культурной истории современного искусства [Daix 1998]. Эти работы объединяет не только общая тема. В каждой из них проделан определенный путь к переоценке XIX столетия в развитии европейской культуры и искусства и написанию его новой культурной истории.
[2] К сожалению, задуманный Фуко фундаментальный труд, посвященный творчеству Мане, так и остался неосуществленным.
[3] Именно этот аспект анализа искусства Мане 60-х годов — один из наиболее интересных в упомянутой книге М. Фрида Manet’s modernism, or, The face of painting in the 1860s.
[4] Мане Э. Бар в Фоли-Бержер. 1881–1882. Холст, масло. 96 × 130, Галерея Института Курто, Лондон.
[5] В книге «Шарль Бодлер об искусстве», изданной в 1986 году, данная работа переведена под названием «Поэт современной жизни», хотя оригинал не оставляет места для сомнения по этому поводу – «Le peintre de la vie moderne». Это весьма симптоматичное разночтение отразило устойчивый стереотип восприятия живописи, сводящийся к тому, что художник, обращаясь к характеристике эпохи, именно «иллюстрирует» ее, «повествует» о ней своими образами. Нельзя не заметить, что Константин Гис, которому и посвящена работа Бодлера, написанная в 1863–1864 годах, действительно, наблюдает и рассказывает карандашом и кистью о своем времени.
[6] Бодлер воспринимает «современность», как свою, так и любую другую, как фрагмент, момент в бесконечном историческом потоке, не отдавая ничему предпочтения и ничего не выделяя. Смена этих моментов для него не связана с ощущением слома и формированием новых социокультурных устоев.
[7] Уже к концу 1870-х годов в Париже появляется множество журналов, чья цель — фиксация феноменов новой социокультурной ситуации — заявлена в самом их названии: La vie moderne, Paris moderne, L’Art moderne, La Revue moderniste. К этому времени были сформированы контуры нового искусства — в творчестве Курбе, Мане, импрессионистов. С момента публикации очерка Бодлера прошло около полутора десятилетий, но не стоит забывать, что в их рамки вписались и серьезные социополитические катаклизмы той эпохи.
[8] Это косвенным образом подтверждается и тем фактом, что серия картин на эту тему у Мане начинает складываться примерно с 1873–1874 годов — с того момента, когда, после бурных социально-политических событий, повседневность вступила в свои права, сложились и устоялись ее визуальные структуры.
[9] Применительно к творчеству Мане ввод термина «символ» позволяет обозначить грани различия в интерпретации реальной повседневной жизни, пролегающие между ним и художниками-реалистами в строгом смысле этого слова. Конечно, при этом следует иметь в виду трансформацию категории символа, десигнат которого в данном случае целиком соотносится с окружающей реальностью.
[10] Интенсивные поиски художника в этом направлении становятся очевидными при сравнении картины с эскизом 1881 г., выполненным маслом на холсте (частное собрание, ил. 12).
[11] Именно его транслирует зрителям и Галерея ИнститутаКурто в своем пояснении к картине.
[12] И ее расположение в композиционном центре полотна, и характеристика ее эмоционального состояния, весь ее облик определяются тем, как с ней разговаривает и откуда на нее смотрит мужчина.
[13] Индивидуальность авторской стратегии в определенном аспекте нарастает еще и потому, что снимаются ограничения, накладываемые стилистическими нормами, на ее проявление.
[14] Выстроенная оппозиция Мане – Гис опирается на анализ творчества последнего в упомянутой работе Бодлера «Художник современной жизни», где поэтом уже намечены, во-первых, основные параметры современности: торжества, празднества, войны, денди, женщины, девки, экипажи, мода и т.д., а, во-вторых, «репортажный» характер художественной стратегии Гиса.
[15] Под этим подразумеваются две вещи. Во-первых, что нарратив повседневности преломляется через нарратив искусства; во-вторых, что эти средства имманентны изобразительному искусству, вырастают из его, и только его! специфической природы.
[16] Здесь важно подчеркнуть, что это именно иллюзия изображения, а не иллюзия объекта, предполагающая другую креативную систему, которая имитирует не объекты (что потребовало бы повтор их форм красками), а впечатления от них, отношения между ними, делая это своим автономным языком. Эта автономность постепенно набирает силу с продвижением вглубь зеркала. Конечно, Мане использует этот прием здесь не впервые. Уже в картине «Борьба быков» 1865–1866 годов (Музей Орсе, Париж) многочисленная, разноцветно одетая толпа зрителей на галереях передана только с помощью рядом положенных мазков, которые при близком рассмотрении есть только мазки и ничего более, но с определенного расстояния сливаются в вышеозначенный образ.
[17] О натуралистической литературе и живописи Мане см.: [Weingarden 1998].
[18] При всей справедливости утверждения, что сюжет в натуралистическом романе строится иначе, чем в классической литературе, это принципиально меняет характер нарратива в нем.
[19] Как бы ни были обусловлены взгляды и техника импрессионистов состоянием современной им науки, философии или влиянием фотографии, они реализовывались как индивидуальный выбор.
[20] Отсюда – становление натюрморта и пейзажа в роли ведущих жанров и главного поля для эксперимента, формирование специфической концепции портрета, из которого уходит не только психологизация, но заметно переосмысляется и главная функция – достижение портретного сходства.
[21] Т. Адорно в «Эстетической теории» намечает важный ракурс понимания композиционных приемов Мане, в котором существенны три момента: во-первых, сам акцент на значимость этих приемов в его живописи, во-вторых, выявление их генезиса в формах противопоставления художника классическим композиционным нормам, и, в-третьих, они определяются как рубеж между классическим и современным, «старым» и новым искусством. Он пишет: «Без их функционирования (речь идет о классических, «идеальных» композиционных нормах, основанных на абстрактных категориях. — К.Л.) великие произведения прошлого было бы также трудно понять, как и гипостазировать их в качестве критериев. Эти формальные категории всегда были только моментами, неотделимыми от моментов содержательно многообразных; они никогда не имели самостоятельного значения, не ценились сами по себе, а только в отношении к сформированному, обретшему форму. Они являются парадигмами диалектики. В зависимости от того, что формируется, они модифицируются; по мере радикализации «модерна» это происходит сплошь и рядом посредством отрицания, — они оказывают воздействие непрямо, в результате того, что их избегают, отменяют, аннулируют; прототипом отношения к ним может служить отношение к традиционным правилам живописной композиции после Мане…» [Адорно 2001, с. 415].
[22] В работе С. Альперс, посвященной «Менинам», содержится оценка того понимания «сделанности» классической картины, которое сформулировано Э. Гомбрихом в книге «Искусство и иллюзия». Исследователь подчеркивает, что, связывая «умение сделать», «сделанность», художественную условность, творимую руками, с усовершенствованием натуралистического изображения, названного им «иллюзией», Гомбрих, в конце концов, неизбежно приходит к определению совершенного изображения как неразличимого от натуры для наших глаз. Тем самым он «приписывает совершенному изображению способность заставлять картины исчезать…» [Alpers 1983, p. 35].
[23] Речь, по сути, идет об освобождении живописного языка от его иллюзионистических функций и обретении им в полной мере его собственного имманентного потенциала к выражению и самовыражению, о чем речь пойдет ниже.
[24] Из многих аспектов и уровней интертекстуальности здесь в первую очередь имеются в виду те, которые замкнуты в рамках авторской стратегии, и являются результатом сознательного выбора художника.
[25] В истории искусства роль ориентации на образец исследована достаточно подробно с точки зрения ее потенциальной соотнесенности со стилеобразующими феноменами. В XIX веке эта роль сохраняла в практике официального искусства свои ведущие позиции, особенно, что касается художественной политики и процесса обучения.
[26] Мане Э. Олимпия. 1863. Холст, масло. 130,5×190. Музей Орсэ, Париж.
[27] Это очевидное и давно отмеченное обстоятельство парадоксальным образом осталось практически скрытым от внимания современников. Т. Дж. Кларк обращает внимание на тот факт, что в отличие от ситуации 1863 года, когда по поводу «Завтрака на траве» сразу были найдены и отмечены его истоки в классическом искусстве, критика (за исключением двух авторов из более 70) в 1865 году словно не замечает очевидную связь между «Венерой Урбинской» Тициана и «Олимпией» [Clark 1984, pp. 93–96].
[28] Подчеркнем, что, если длина формата обеих картин совпадает (190 см), то «Олимпия» заметно выше, чем «Маха обнаженная» (разница 43.5 см).
[29] В том смысле, в котором этот термин употребляет Деррида.
[30] С его деаксиологизацией «абсолютных» ценностей, разрушением иерархического порядка, утверждением изменчивости и относительности устоявшихся представлений.
[31] См. очень интересный визуальный ряд, составленный из картин с этим мотивом, написанных одновременно или чуть раньше «Олимпии»: Clark 1984, pp. 112–131.
[32] Портретный жанр в творчестве Мане также чрезвычайно показателен в этом аспекте. Его природа и развитие во многом определяются характером и эволюцией именно интертекстуальных связей, актуализированных в том или ином произведении. Разные аспекты интертекстуальности – от явного подражания до глубинных смысловых перекличек – составляют семантическую структуру портретов его кисти. Особо показательными в этом плане являются портреты творческих людей прошлого и современности. На раннем этапе (портреты Э. Золя, 1868, или З. Астрюка, 1866) очевидно влияние Делакруа. Такие полотна художника-романтика как «Микеланджело в мастерской» и «Мильтон диктует „Потерянный рай“» явно послужили основой для выработки Мане собственных композиционных формул в решении схожих задач. Но дистанция, пролегающая между упомянутыми полотнами Мане и его трактовкой образа С. Малларме (1876), демонстрирует путь пройденный художником, прежде чем он достиг качественно нового уровня интертекстуального диалога. Однако проблема портрета в живописи Мане в рамках выбранного здесь контекста содержит много характерных именно для этого жанра нюансов и аспектов, поэтому ее следует рассматривать самостоятельно.
Авторы статьи
Информация об авторе
Красимира Л. Лукичева, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник Государственного Института искусствознания, Москва, Россия; 125009, Россия. Москва, Козицкий пер. д. 5; lukicheva@sias.ru
Author Info
Krassimira L. Loukitcheva, Cand. Sci. (Art History), Assistant Prof., Senior Researcher, State Institute for Art Studies, Moscow, Russia; 5 Kozitsky Lane, 125009, Moscow, Russia; lukicheva@sias.ru