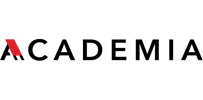От первого лица. По материалам интервью с Татьяной Назаренко
Ольга А. Юшкова
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ, Москва, Россия, yushkovaoa@rah.ru
Аннотация.
Татьяна Назаренко — известный художник, академик и член Президиума РАХ. Высказывания мастера о различных проблемах современного искусства, художественного образования и о собственном творческом пути представляют большой интерес.
Ключевые слова:
Назаренко, художественное образование, инсталляция, картина, современное искусство.
Для цитирования:
Юшкова О.А. От первого лица. По материалам интервью Ольги Юшковой с Татьяной Назаренко, состоявшегося 29 апреля 2019 года // Academia. 2020. № 1. C. 104–110. DOI: 10.37953 / 2079‑0341‑2020‑1‑1-104-110
From the first person. Based on the interview with Tatiana Nazarenko on April 29, 2019
Olga A. Yushkova
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, yushkovaoa@rah.ru
Abstract.
Tatiana Nazarenko is a well-known artist, academician, member of the Presidium of Russian Academy of Arts. Master’s statements about various problems of contemporary art, art education and her own creative path are of great interest.
Keywords:
Nazarenko, art education, installation, painting, contemporary art
For citation:
Yushkova, O.A. (2020), Ot pervogo litsa. Po materialam intervyu Olgi Yushkovoy s Tatyanoy Nazarenko on April 29, 2019 [From the first person. Based on the interview of Olga Yushkova with Tatiana Nazarenko 29.04.2019], Academia, 2020, no 1, pp. 104–110. DOI: 10.37953 / 2079‑0341‑2020‑1‑1-104-110
Татьяна Назаренко размышляет о необходимости художественного образования
Я считаю, что ни в коем случае от академического образования нельзя отказываться. Если это произойдет, это будет, наверное, одна из самых ужасных вещей в нашей жизни. Как бы ни реформировалось сознание, какие бы новые технологии ни приходили в голову людям, все равно никто не отменял умения рисовать лица, руки, фигуру, большие композиции. И все это прекрасно видно на тех выставках, которые проходят сейчас в музеях. Вот, например, Люсьен Фрейд и Фрэнсис Бэкон — они замечательно писали, знали анатомию.
Я помню, когда я училась в Суриковском, у нас был курс анатомии. Я до сих пор помню, как она преподавалась, какие висели там фрагменты ног, как наш Иваницкий показывал, где и какая есть мышца, и как нога прикрепляется… А когда я сама преподавала в Суриковском институте, сейчас я уже года 4 или 3 не преподаю, мне приходилось ворошить свои прошлые знания. Я вспоминала, что нам Иваницкий говорил, приносила различные книги, существующие по анатомии, и должна была показывать, как и почему человек ходит именно таким образом, как у него двигается пятка — самые обыкновенные вещи. Без этого невозможно, если вспомнить великое искусство.
Конечно, есть сожаление о тех часах, что я преподавала в институте, я бы написала много картин. Но мне приятно, что у меня есть студенты, есть успешные — это замечательно, а вот когда неуспешны — это печально. Я чувствую, что не дала им того, что могла бы дать.
Возвращаясь к той самой анатомии... На мой взгляд, если посмотреть на то, что происходит в современном искусстве, это немножечко такая подмена — уходит изобразительное искусство, вместо него приходят совершенно новые формы, которые я очень приветствую. Я всегда хожу на все современные выставки во всех городах Европы и Америки, смотрю, что происходит — надо все-таки знать.
В свое время я привозила с собой всякие открытки, фотографии и пыталась студентам своим показать, чтобы немного их развить. Но это как-то мало их интересовало, потому что вокруг была совершенно другая обстановка. Она практически не изменилась с моих школьных лет. Я как училась в школе и как пришла в институт — у нас все равно было равнение на передвижников, на реализм «самого простого качества». Когда у меня сейчас спрашивают, а как же называется мой стиль, я говорю, что я реалистка. Американский критик Дональд Каспит назвал меня абсурдным реалистом, намекая на мои фанерные фигуры и сравнивая меня с американскими художниками. Но я продолжаю быть реалистом, мне кажется, что в реализме есть бесконечные возможности, если не понимать его узко, исключительно в рамках передвижников.
Но и в институте современного искусства не совсем понятно, чему учат. Например, взять развитие человека, маленького человека — если дают ребенку кубики или Lego, он начинает придумывать. Но если ему дают в руки планшет, где он умеет нажимать только на кнопочки — это, по-моему, просто чудовищно. Вот это аналогия с институтом современного искусства. У меня даже взрослые девочки и мальчики, доходя до последнего курса, спрашивали: «Татьяна Григорьевна, а что мне взять, какую тему на диплом?». У меня была такая установка, я говорю, пожалуйста, пишите, что хотите и как хотите, я вас буду только поддерживать, но только вы подумайте, что вы хотите сделать, сначала подумайте. А вот умение думать — мне кажется, что в институте современного искусства этому учат меньше всего. Там могут научить сразу придумать, ну вот любой видеоарт, пожалуйста, придумайте, вот как это движется, как камера — но это техника, так же как фотография. Я, например, с большим интересом отношусь к творчеству Билла Виолы, и в каких-то статьях меня даже сравнивали с ним, с его инсталляциями, но его творчество действительно уникально, как и творчество любого крупного современного художника, открывшего что-то новое, уникально и интересно, а когда это становится массово и когда мы массово заимствуем что-нибудь, мне кажется, это очень плохо.
О современных проблемах академического художественного образования
Когда я услышала, что нашу знаменитую академическую живописную мастерскую до сих пор возглавляют братья Ткачевы, которых я не видела много лет ходящими где-то, то это у меня просто шок вызвало, я уж думала, может, что-то уже изменилось. Надо сказать, когда я работала в академической мастерской под руководством Коржева, к нам, по-моему, каждый месяц приезжал президиум Академии, потому что было им интересно, что делается, на что тратятся деньги и как развивается искусство в Академии. У нас были вполне интересные художники — тот же Олег Филатчев, вместе мы заканчивали мастерские, а что сейчас происходит в мастерских — никто не знает, какие художники выходят … я не хочу никого обижать — я их тоже не знаю. К сожалению, у нас на сегодняшний день становится все хуже и хуже.
Например, умение поставить три фигуры в пространстве и сделать постановку из трех фигур — это уже фактически задача написать картину. Но когда я преподавала, это сделать было невозможно, у нас денег на это не хватало. Я выходила из положения — приносила свои зеркала, заставляла приносить из скульптурной мастерской какой-нибудь экорше, который драпировала в какие-нибудь плащи и прочее, и прочее… И когда в мою мастерскую приходил бухгалтер и видел, что у меня постановка из трех фигур, то вывод был простой; вот как замечательно Татьяна Григорьевна сделала постановку из трех фигур, обойдясь всего лишь одной фигурой — вот так и надо работать,. то есть я была примером, потому что на мне можно было экономить деньги… И дальше это все снижает уровень студентов, которые не знают, как нарисовать, написать руку, а, между прочим, искусство реалистического портрета очень-очень востребовано. Когда я читаю или слышу, что выпускник Репинского института пишет портреты королевы Елизаветы и других коронованных особ, то у меня, честно говоря, — гордость за русскую живопись. Значит, так научили, просто так никому заказы не выдают, это тоже востребовано, но этому же надо учиться…
Я неоднократно говорила в институте, что нам нужно завести компьютеры в мастерской, чтобы мы могли чему-то научиться, ведь и мы, преподаватели, учимся вместе со студентами. Свою первую фреску я сделала вместе со студентами, хотя у нас не было в программе, но я попросила, чтобы мне объяснили, как сделать фреску. Значит, я училась вместе с ними делать фреску — получила громадное удовольствие. И так же с компьютером, то, что можно из него выжать, показать, и мне было бы интересно, можно пригласить преподавателей, которые в этом понимают, а то мы приглашаем художников, которые плохо пишут, плохо рисуют, не знают куда устроиться и идут в Суриковский институт, потому что 30 лет назад мы с ними учились… То же самое происходит в школе — в школу идут средние художники, которые не могли устроить себя в жизни.
Ну а то, что наш институт перешел в ведение Министерства культуры, вообще полностью разрушило какие-то надежды на улучшение ситуации. Последний раз я слышала, что в Министерстве культуры сказали — зачем хранить дипломы, зачем хранить лучшие постановки, которые вы отбираете? Это никому не нужно, хранить их негде — а я вспоминаю, как отбирали работы в моей мастерской, и когда я услышала это — у меня слезы просто на глаза… тем более, что недавно я была в Петербурге, в музее Академии, где висят дипломы аж с XVIII века до последнего времени. Ну а как это? Всегда существовала практика — государство дает деньги на обучение, но у нас нет возможности построить настоящий запасник для того, чтобы мы могли показывать, какие достижения у нас были в искусстве. Все лучшие художники заканчивали наш институт. Это относится и к Кабакову, и к Булатову — ко всем. Суриковский институт — это всегда была самая главная фишка. Ну и что? Ну висит у нас работа Булатова, по-моему, еще Салахова, ну и все, а другого ничего не будет висеть. Это просто трагедия.
О положении художника на современном этапе
Сегодня можно все, — пожалуйста, пишите, что хотите. Но появилось другое — а куда писать, а для чего писать. И сразу вспоминается ленинская фраза по поводу зависимости от денежного мешка, и никуда от этого не уйдешь. Потому что у нас раньше были замечательные возможности — тот же Манеж, в котором выставлялась масса художников, где были громадные выставки и, собственно говоря, это было единственное пространство. Потом появилось здание на Крымском. Там тоже были выставки, когда еще оно принадлежало Международной конфедерации Союза художников. Мы видели, что делают художники из Латвии, Эстонии, Киргизии, Казахстана. Мы знали, что происходит. Я уже не говорю о том, что когда началась перестройка, то лучшие художники всего мира считали честью выставиться там. Тот же Бэкон, была его громадная выставка, Раушенберг, Юккер — все хотели выставиться у нас, в нашем пространстве.
А теперь, пожалуйста, делайте что хотите. Куда делать? В галерею — ну придет несколько человек и все, больше ничего. Ну хорошо, если купят за непонятное количество денег, а это очень трудный сейчас момент. Вот я сейчас вспоминаю, когда мы заканчивали институт, у нас совершенно четкая была установка, что надо делать. Во-первых, нам надо было поступить в Союз, потом поступить на комбинат, где мы получали заказы, и, сделав какую-то чепуху за 2 недели, можно было целый год работать для себя. Этим занимались все художники. Ну, я не хочу сказать, что все, кто-то продолжал писать Ленина с бревном или Ленина с детьми, и прочее-прочее, а кто-то писал именно для себя. Тем не менее все лучшие художники прошли через этот комбинат — графики, скульпторы, живописцы. А сейчас, когда кончаются студенческие годы и у тебя была мастерская какая-никакая, хоть и на 10 человек, но все равно, у тебя был свой угол, где ты работал, а дальше куда?
Я думаю, в конце концов, в других странах существуют гранты. У нас тоже существуют гранты, но дают их только на определенное искусство, и как переломить эту ситуацию, я, например, не знаю. Это даже не моя задача — я не вхожу ни в какие большие комитеты. Когда-то входила в комитет по государственным премиям, но потом спокойно занялась своим творчеством, благодаря чему смогла написать что-то.
Свои сложности были и раньше. Когда я сейчас рассказываю своим студентам по поводу того, что снимали работу с выставки, — они не понимают, о чем речь, — а как снимали, а кто снимал, почему снимали… Ну как, приходили из управления культуры две дамы, которые решали, что должно висеть, а что не должно — и всё. Многие художники, особенно мужчины, не выдерживали прессинга. Женя Струлев, замечательный художник, когда сказали, что снимают его работу с выставки, большую двухметровую работу, посвященную памяти Виктора Попкова, — он взял нож и разрезал ее просто на наших глазах. Кто-то запивал, уходил в чудовищный запой, потому что не мог выдержать этого — сняли работу с выставки.
Продолжаются и сейчас непонятные вещи. Для меня трагедия, что многие замечательные работы уничтожаются. Вот я буквально два дня назад слышала, что витраж Эли Жареновой уничтожили. Я всегда думала, что монументальная скульптура, живопись, она переживет века, как пережил Джотто с XIV века, приходишь и смотришь его капеллу — как будто сейчас написано, а у нас просто срубали произведения искусства. Последнее, что я видела, — когда на кинотеатре «Октябрь» еще оставалась мозаика Андронова, а сейчас смотрю — там какие-то висят флаги — закрыта она, или сбита, или еще что... Все великолепные мозаики, которые существовали — кафе «Печора» или в каких-то маленьких кафешках, громадные работы Пчельникова и Лавровой уничтожены, просто уничтожены, вырублены скульптуры Нины Жилинской, которые она делала в Гурзуфе, — просто уничтожено! Это монументальное искусство, которое должно было пережить века и остаться памятником эпохи. И это не война, не какие-нибудь стихийные действия, нет, это просто решение начальника, который решил, что не украшают они, или лучше бы на этом месте поставить что-нибудь другое. Это нигде невозможно представить, ни в одной стране. Я не очень люблю творения Корбюзье, но эти убогие домики бережно сохраняются как памятник эпохи — сохраняются, восстанавливаются, поддерживаются. Ну а у нас подобные строения сносят, потому что нужно построить гигантский дом 100-этажный, и всё тут.
О своем творчестве
Мне кажется, что я почти всегда делала то, что хотела, и это было счастливое состояние. Это началось как-то с самого начала. Вот когда я делала в мастерской Академии художеств большую картину «Казнь народовольцев», я ее делала в общем-то в никуда. Просто Коржев говорил всем в Академии, что надо мол поддержать молодого художника и дать ему сделать так, как он хочет. Вот какой у меня был замечательный руководитель. И поэтому я делала то, что я хотела, несмотря на то, что приезжал Президиум Академии и говорил свои какие-то замечания, но я всё равно делала то, что я хочу. Ну и дальше продолжала делать то, что я хочу.
Снимали работы с выставок, это было совершенно ужасно, после этого хотелось то ли повеситься, то ли залить вином. Но будучи матерью уже одного ребенка, я не могла себе этого позволить. Ну и так вот продолжалось. Я всё равно делала то, что я хочу. Конечно, я писала очень редко, я вот могу по пальцам посчитать, помимо комбината, который не считался за творческую работу, но здорово помогал выжить. Но, потом, когда все это закончилось, началась перестройка, и у меня уже было имя, потом я участвовала в аукционе Sotheby’s, мои работы уже хотели купить, мне было их жалко продавать. Я из тех художников, которым жалко расставаться с картинами, я долго многие вещи специально не продавала, потому что… жалко было.
Многие художники во все времена работали по заказу. Заказы герцогов, королей. Бракосочетание Медичи… Рубенс написал, кажется, 50 гигантских холстов, 20 х 10, целую анфиладу во дворце — это же сказка.Сикстинская капелла тоже написана по заказу, то есть в заказе ничего плохого не было, если хороший заказчик.
У нас немножечко по-другому. Министерство нам, ну мне во всяком случае, редко заказывало. Были картины к каким-то выставкам, не скрою, были, но мало. В основном, я писала для себя, потом эти работы с выставок покупали. А потом произошло то, что произошло, — перестройка, переоценка ценностей, официальные художники, которые выставлялись на выставках, стали считаться плохими, продажными и т.д… А все остальные, которые были андеграундом, стали великолепными, о них начали писать книжки. Меня это, конечно, задевало, обижало, но потом я к этому привыкла, — нет и не надо, значит, я выставляюсь где-то в другом месте, я не жалуюсь.
Я всё время занималась историей, без которой мы не можем обойтись. Люди, которые не знают своей истории, — я считаю, что это просто неудачники. Хотя, к сожалению, их становится больше и больше — тех, кто не знает своей истории, истории своей страны, истории общества. Я подумала, что все мои работы — они исторические. Если это не впрямую, как «Казнь народовольцев», «Декабристы», еще что-нибудь такое, то вот моя серия, например, «Фамильный альбом» — это же тоже история — история моей страны, моей семьи — история, ведь всё проходит… Для меня лично миссия художника — оставить после себя тот мир, в котором мы живем. Ведь благодаря художникам только можно узнать, как вообще всё происходило. История переписывается множество раз, а по лучшим произведениям лучших художников можно понять жизнь, быт, интерьер, одежду, моду, нравы их эпохи — всё можно представить по их работам. Можно даже понять, почему импрессионисты, когда начиналась война, продолжали писать свои кувшинки и уезжали туда, где им никто не мешал — это тоже такая позиция — уйти от истории. Или немецкие художники — как Отто Дикс, искусство которого Гитлер называл дегенеративным, — они делали эту историю, чтобы оставить всё.
И у картин ведь тоже страшная судьба бывает, как у художников, картины уничтожались. Их и сжигали, работы того же прекрасного Боттичелли на костре горели. Вот я сейчас об этом говорю, и мне прямо страшно подумать, как это могло быть. А во Вторую мировую войну готовы были уничтожить всё, лишь бы не оставить врагу. Вот как это представить себе! Ну а что касается современного искусства — ну будет другое видео, будет другое фото. Это вещи… серийные, как, например, фото, которое можно много раз тиражировать, картины — нет.
Хотя в девяностые годы я даже писала в своих монографиях, что писать картины стало неинтересно. Неинтересно, потому что они никому не нужны, непонятно, где их выставлять, для чего. И я перешла на другой вид искусства — ну вот, например, мои фанерные инсталляции, фанерные обманки, которые я-то думала, что я их придумала! Помню, у меня была даже выставка в Кусково, где они сохранились — шесть фигур-обманок. Потом, когда я поездила по миру и увидела, сколько обманок существовало в разные века, а вот такие, написанные на дереве, такие же, как и я делала — они тоже существовали с XVIII века во всех странах. Слава Богу, эти счастливые примеры остались в музеях и в парках.
Потом я занималась фотографией, сделала пару выставок. Поняла, что это очень интересно — заниматься фотографией, но для этого надо очень много знать — про пленку и не только. Сделала видеоинсталляцию один раз. Опять же меня даже за нее кто-то хвалил, кто-то ругал — во всяком случае, она существовала. Для этого нужно полностью переключиться, а писать-то хотелось, мне всегда хотелось писать. А потом, еще дело в том, что другое поколение совершенно не воспринимает тебя. Вот сколько бы я не делала самые суперфотографии, я все равно не была бы фотографом, и мои выставки не были бы востребованы так, как выставки молодых ребят. Поэтому для чего пытаться влиться в другой поток? Я иду своим путем. Меня это не беспокоит.
Это не означает, что я стою на месте. Когда я сделала инсталляцию «Взрыв», многие мне говорили, зачем я такую гадость делаю, зачем эти пенопластовые штуки, которые я делала своими руками, искореженными вообще после этой техники. Зачем это нужно делать? Ну как зачем? Я хотела это передать не средствами живописи, потому что живопись — это немножечко такое отстранение, они отстранены от меня. Вот даже мои фанерные обманки я могу их пощупать, потрогать. Они более теплые. А вот там страшная масса уже не людей, а человеческих останков. При том, что события в мире дают бесконечный повод задумываться о том, что происходит. Поэтому без этого же нельзя обойтись.
Если бы я делала это в привычном материале — в гипсе, бронзе или еще что-то такое — они были бы похожи на настоящие — руки, ноги, но мертвые тела отличаются от живых, они похожи на живые, но это уже другое, а в таких ситуациях, они совершенно другие, вот поэтому нужен был другой материал.
Натурализм происходящего — это всегда грань, должна быть грань между заспиртованным животным — вот стоит себе акула, заспиртованная, но все равно как будто она в аквариуме. Лично у меня она не вызывает никаких эмоций, ни художественных, ни каких-то других. Она просто стоит заспиртованная. Даже не хочется об этом продолжать. В конце концов Петр Первый в своей кунсткамере набирал много чего страшного…
Между прочим, я заметила, что не только у нас, но и в других странах, куда возила свои фанерные фигуры, живопись, людям все равно интересно фигуративное искусство. Вообще, кое-кто говорит, что оно возвращается. Но оно будет долго еще возвращаться, может быть, мы и не увидим возврата. И потом, если исчезнет вот та самая школа, то вернуться к фигуративному искусству будет чрезвычайно сложно. Это все равно, это не наскальные рисунки, с чего начинался фигуратив. Придется очень долго идти к этому.
О своей выставке в залах Академии художеств на Пречистенке
Мне несколько раз говорили, а почему я не делаю выставку в Академии. Некоторые по пять раз делают. И вот, наконец, я сделала выставку в Академии. Во-первых, я очень хотела показать свою серию «Фамильный портрет», а где еще может быть такое количество залов, где я могу их так показать? Ну и все работы, которые я сделала за последнее время. И где еще я их покажу, в какой галерее я покажу трехметровую работу с военными событиями? Все-таки галереи предназначены для того, чтобы там все-таки волей-неволей люди покупали эти вещи, у меня покупают, даже иногда страшные вещи, очень страшные вещи покупают. Бывают такие люди, которые знают, что это произведение искусства, а не просто так, чтобы украсить интерьер, есть же коллекционеры. Мне повезло. Я видела такие коллекции — роскошные, громадные, которые абсолютно не предназначены для того, чтобы сидеть за обедом и рассматривать, кто над тобой висит. Видела феерические дома, в которых были все лучшие художники всех времен и народов. Это было замечательно — гениальные люди — приглашали к себе домой и показывали, что у них есть. Благодаря таким коллекционерам, в нескольких музеях мира есть мои работы.
Конечно, на этой выставке у меня нет музейных работ, не могла же я взять работы, которые у меня в Третьяковке. Да я и не собиралась это делать. В конце концов, можно из трех-четырех вещей показать эпоху. Основная история вокруг нас. Вот, например, настоящий дом, где жил Вяземский, куда приходил Пушкин. У меня на глазах его сломали, потом восстановили, сделали абсолютно новым и повесили вот эту доску, что это памятник архитектуры. Прошло лет 20 — у нас как делают — у нас делают не на века — его снова сломали, снова вытащили весь мусор, и он снова стоит отреставрированный и продолжает висеть доска, что это памятник архитектуры. Ну, анекдот ведь!
А мне так хотелось, чтобы люди почувствовали разрушение, когда я писала эту картину. К сожалению, это в основном вот так — если брать, например, сравнение Москва и Петербург — в Москве у нас чудовищное разрушение, чудовищное отношение к памятникам, а в Петербурге, вот я два дня назад приехала, я просто купаюсь в этом роскошестве. Меня не пугают эти самые черные трубы, да, если заглянуть за угол и увидишь всё это — ничего, за угол я заглядываю и вижу город Бродского, город Достоевского, мне не мешает то, что они там грязные, или исписанные, или еще что-то такое, — они живые, они еще живут. И было бы ужасно, если бы на их месте появились эти жуткие современные дома. Они прекрасны — все эти дворцы, и во всех дворцах искусство. Вот сейчас у меня будет выставка в музее XXI века, на канале Грибоедова — это будет выставка моя, Игоря Новикова — моего мужа и его отца. Будет такая серьезная выставка. Хотя это не дворец, но пространство там замечательное, оно очень интересное, очень многосложное…канал Грибоедова…
Авторы статьи
Информация об авторе:
Ольга А. Юшкова, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, 21; yushkovaoa@yandex.ru
Author Info:
Olga A. Yushkova, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; yushkovaoa@yandex.ru