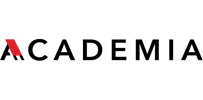Отто Вайнингер: теория между гением и генидой
Степан С. Ванеян
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, vaneyanss@rah.ru
Аннотация:
Книга Вaйнингера «Пол и характер» (1903) представляется не только памятником эпохи, но и симптомом эпистемологического рода: переход от позитивизма и ассоциативной психологии к психоанализу и феноменологии совершался на персональном уровне отдельного ученого, проявляясь весьма болезненно — через преодоление (не всегда успешное) внутренних напряжений творческой личности, что проявились в активной мизогинности (женоненавистничестве) и сознательной «самоненависти» (антисемитизме). Подобные крайности идеологически-риторического рода сами суть парадоксальные инструменты критики традиционных ценностей европейской культуры с характерным патриархальным приматом мужского и биологически обусловленного. Литературно-критический опыт Вайнингера — пример бессознательной идололатрии, где близкое к гениальности индивидуальное Эго перед лицом экзистенциальных угроз вынуждено исполнять или инсценировать самообожествление, неизбежно переходящее в саморазоблачение и самоупразднение.
Ключевые слова:
Вaйнингер, психология, гениальность, творчество и пол, отношение к женщине.
Для цитирования:
Ванеян С.С. Отто Вайнингер: теория между гением и генидой // Academia. 2020. № 1. C. 41–58. DOI: 10.37953/2079‑0341‑2020‑1‑1-41-58
Otto Weininger: the Theory Between Genius and Genida
Stepan S. Vaneyan
Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts,
Moscow, Russia, vaneyanss@rah.ru
Abstract.
Otto Weininger’s book “Geschlecht und Charakter” (“Gender and Character”, 1903) is not only a monument of the epoch, but also a symptom of an epistemological kind. The transition from positivism and associative psychology to psychoanalysis and phenomenology was made at the personal level of an individual scientist, manifested very painfully through overcoming (not always successful) internal tensions of the creative person materialized in active misogyny and conscious “self-hatred” (anti-Semitism). Such extremes of an ideological and rhetorical kind are themselves paradoxical tools for criticizing traditional patriarchal values of European culture with innate masculine and biologically conditioned superiority. Weininger’s literary-critical experience is an example of unconscious idolatry, where the individual Ego, close to genius, is forced to perform or stage self-deification in the face of existential threats, which inevitably turns into self-exposure and self-abolition.
Keywords:
Weininger, psychology, genius, creativity and gender, attitude to women.
For citation:
Vaneyan, S.S. (2020), “Otto Weininger: the Theory Between Genius and Genida”, Academia, 2020, no 1, pp. 41–58. DOI: 10.37953/2079‑0341‑2020‑1‑1-41-58
Всякая нравственность заключает в себе творческое начало; поэтому преступник не трудолюбив и не продуктивен (у него нет воли в стремлении к ценности). Если бы женщина обладала действительной нравственностью, она могла бы творить.
Отто Вайнингер
…Существуют ли среди животных (или растений) такие существа, которые по праву могли быть названы гениальными?
Отто Вайнингер
Вайнингер: пол, характер, нация, вера
Существует живое и одновременное трагически мертвящее доказательство связи между гением, помешательством и творчеством. А также между социал-дарвинизмом, расизмом и религиозностью неофита. Это, конечно же, Отто Вайнингер (1880–1903), автор культового до сих пор по-своему текста на 400 страниц под названием «Пол и характер. Принципиальное исследование» (1903)[1].
Заключенная в его судьбе и его текстах мораль состоит в том, что в его лице позитивизм нашел своего мученика-свидетеля, своего рода страстотерпца идеи, выносящего ему приговор и ценою собственной жизни приводящего этот приговор в исполнение.
Поговорим о нем хотя бы потому, что это все та же Вена, классический модерн[2], и не просто рубеж веков, — а самый порог психоанализа, та самая реальная патология и подлинная патодиагностика, из которого фрейдизм, скажем между прочим, все время пытался выбраться. Уж больно все это болезненно, не благополучно и не респектабельно (не буржуазно, как сказали бы какие-нибудь критики-дадаисты, предтечи психоаналитиков-сюрреалистов…)
Но прежде — краткая биография этой, действительно, крайне краткой жизненной судьбы. Родившись в семье преуспевающего венского ювелира, в 16 лет Отто Вайнингер написал исследование языка Гомера, к 18 годам уже знал полдюжины языков, обучался философии и психологии в Венском университете, увлечен был Кантом и Вагнером. Профессионально занимался математикой и музыкой. В 1902 году защитил диссертацию на модную тогда тему бисексуальности (вспомним Вильгельма Флисса и его тяжбу с Фрейдом[3]), озаглавленную им «Эрос и Психея. Биологически-психологическое исследование»[4], сразу после защиты крестился в протестантизм. Весной 1903 года под заголовком «Пол и характер…» опубликовал диссертацию в сильно расширенном виде (были добавлены три последние главы, примерно треть всего текста — самые одиозные и невыносимые), летом путешествовал по Италии, в начале сентября вернулся в Вену, снял комнату в доме, где умер Бетховен и там 3 сентября совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в сердце. Умер по дороге в больницу, не приходя в сознание[5].
Книга стала сенсационной, скандальной и легендарной, равно как и жизнь и смерть ее автора. К середине 1920-х она выдержала 24 издания. Среди его почитателей — и Август Стриндберг, и Стефан Цвейг, и Карл Краус, и Гертруда Стайн, и Арнольд Шёнберг, и Освальд Шпенглер, и Фридрих Юнгер[6], и даже Людвиг Витгенштейн, мальчиком присутствовавший на его похоронах[7]. Его гениальность почти физически ощутил на себе Фрейд при первой и последней с ним встрече, отвергнув при этом его сочинение категорически (Вайнингер просил помощи в издании рукописи, но получил отказ, хотя довольно рано стало понятно, что Фрейд Вайнингера штудировал не без усердия, особенно те моменты, что касаются все той же бисексуальности)[8].
Существенно важно — в контексте любых разговоров о гении и помешательстве[9], что для Вайнингера гений — как раз и есть проявление высшей нравственности. Мы вспоминаем этого юного мыслителя-самоубийцу за то, что в его лице Иммануил Кант одолел-таки Огюста Конта… Правда, и мужчина у него одолел женщину, а идейный антисемит-неоромантик, увы, — голос крови…
Похоже, биологизму просто необходимы враги — такова природа животной жизни с ее борьбой за выживание, естественным (и противоестественным) отбором, и случай Вайнингера — доведение до предела всех базовых позитивистских постулатов. Но поразительно и одновременно соблазнительно то, как эта метафизика и патетика витальной животности властвует в сферах эстетики и искусствознания, пытаясь именно там, в титанических недрах вагнеровской музыки, ибсеновской драмы и микеланджеловской пластики прикинуться своей противоположностью — мистикой и поэтикой.
Но происхождение выдает себя: знаменитый вайнингеровский постулат первичной бисексуальности человека («постоянно действующей двуполости» [Вайнингер 2012, с. 21]) обосновывается с помощью эмбриологии. И ведь на самом деле, в начале, в архаическом и утробном состоянии человек беспол и амбивалентен. Можно оценить, так сказать, реализм мышления Фрейда, который остановился на детских состояниях человека, тогда как Вайнингер идет дальше и глубже и предпочитает полноценному человеку его зародыш, предвосхищая чуть ли не Грофа с его «пренатальным опытом»[10]. Не случайно Вайнингера называли Анти-Фрейдом. Кстати говоря, это был его почти официальный статус в фашистской Италии: здоровая, научная «арийская» альтернатива болезненному, антинаучному «иудейскому» психоанализу, хотя в нацистской Германии его книгу жгли...
Вайнингер, кажется, просто отказывается знать и ведать о границах регрессии, доводя позитивистскую страсть к генезису до абсурда, так что возникает подозрение, что и культ гения у Вайнингера связан с тем, что этимологически гений — это «породитель». Так что, быть может, прав Фрейд (в «Маленьком Гансе», 1909), заподозривший Вайнингера в страхе кастрации («момент <…> общий для женщины и еврея» [Фрейд 2006, с. 36–37]), в Эдиповом комплексе, спроецированном в область чистых идей, куда трагический мизогин-юдофоб попытался пронести (под полой религиозного анти-эмпиризма и неокантианства) самые отъявленные инстинкты материализма и откровенные травмы инфантилизма.
Не забегая слишком вперед, но и не задерживаясь чрезмерно на нюансах скандального текста, проследим наиболее поучительные и показательные положения теории Отто Вайнингера.
Его пресловутая, хотя, на самом деле, принципиально революционная идея врожденной бисексуальности была спровоцирована, как это не покажется, на первый взгляд, странным, идеей сугубо платоновской (не сказать, чтобы платонической) о первичности и исконности духовного, эйдического, оформленного в том числе и в мифе о Гермафродите.
Бисексуальность как исток и условие
Для Вайнингера в этой связи и в связи с его острой мистической религиозностью оказывался принципиальным именно вопрос о соответствии духовного и материального. Ведь дух не может не быть универсальным, то есть всеобъемлющим началом и, более того, он не может не присутствовать именно как чистое начало и в человеческой жизни, которое протекает, между прочим, здесь, в этом мире — материальном и человеческом. Этот же мир характеризуется раздвоенностью, соприсутствием и конфликтом противоположного, например, мужского и женского…
Нужно оценить искренность и бескомпромиссность мыслителя, который делает дух именно началом, в котором не просто сходятся или снимаются противоположности (это не Гегель). Они в нем растворяются, исчезают, упраздняются посредством — самое главное и самое болезненно новое — слиянием в единое целое.
Но почему из всех противоположностей и враждебностей берутся именно те, что образуют пространство половых отношений? Задав вопрос, мы на него уже частично ответили. Потому что, казалось бы, противоположные полы, мужчина (у Вайнингера — просто М) и женщина (просто — Ж), тем не менее, по какой-то таинственной силе, исполненные общей энергии, стремятся друг к другу, объединяются именно в телесное единство друг с другом. И не просто составляют одно целое, пускай на время (для Вайнингера, между прочим, время — почти что ругательство), но и дают плоды этого единства — порождают потомство в виде детей.
М и Ж — это не личности, это даже и не типы, это «субстанции, которые в различных смешениях распределены на живые индивидуумы…» [Вайнингер 2012, с. 21], встречаясь, между прочим, в организме на всех уровнях, вплоть до отдельной клетки, в которой тоже содержится пол.
На основании подобного постулата Вайнингер выводит свой известный «основной закон полового притяжения» [Вайнингер 2012, с. 35 и далее], смысл которого в том, что стремление индивидуумов к слиянию связано с потребностью в дополнении недостающей в нем массы его собственных половых признаков, которые он как бы добирает у партнера. Сама пропорциональная шкала признаков М и Ж дает в сумме некие свойства, которые проявляются внешне эмпирически и, что важно, привлекают партнера, пробуждают его влечение, проявляющее себя как некоторое очень конкретное и откровенно вкусовое предпочтение. Так половая эйдетика (мужественное и женское — это, по крайней мере, типы, если не юнгианские архетипы — все те анима/анимус) коррелирует с половой эстетикой, и их связующим звеном оказывается чистой воды морфология и физиология, вполне в данном случае обходящиеся без всякой этики. Этот совершенно железный детерминизм, поразительно схожий с физикой. Ведь недаром Вайнингнер эти отношения сравнивает со все той же термодинамикой, что фигурирует и у Фрейда в его метафоре «психического аппарата». Кроме того, этот экспериментально точный дух сродни духу нам известного Джованни Морелли, имевшего смелость судить о творческой индивидуальности по дистрибуции характерологических и типологических признаков. Мы еще раз убеждаемся, как соблазнительно дух заставлять материализовываться хотя бы в пределах нашего мыслительного процесса, используя вовсе не в эвристических, а, скорее, в риторических целях понятие все той же субстанции. Она под пером Вайнингера превращается в нечто, напоминающее знаменитую эктоплазму спиритов. А приводимые им псевдо-математические формулы, описывающие соответствующие процессы, отчасти напоминают магические формулы заклятия (недаром у него М — это всегда «+», а Ж — это «–»).
Хотя если быть совершенно точными в следовании за Вайнингером, то эти отношения правильно именовать именно «экономическими», так как в основе их — буквально обменные процессы, протяженные во времени («время реакции» [Вайнингер 2012, с. 47]) и учитывающие всякого рода факторы «полового сродства» вкупе с факторами расовыми, семейными, связанными со здоровьем и т.д. («фактор пропорциональности»).
Но ссылка на эстетически очевидную (буквально доступную визуальному наблюдению и наглядно упорядочиваемую) силовую природу влечения — ответ лишь частичный, так как полный заключен в том, что животно-биологические, сексуально-удовлетворяющие отношения — они непосредственно даны, они почти инстинктны, они являют жизнь, реальность и действительность — как она есть. И потому, если мы признаем за эротизмом духовное начало, изначальный исток силы, власти, энергии и творчества, то тогда мы и исполним наш долг перед духом, признав его всевластие, всесилье и всеприсутствие. Это не есть редукция, это связанная с откровением дедукция, низведение-нисхождение высшего и всеобщего в низшее и индивидуально-конкретное. Вспомним Юнга в период его «Психологических типов» и увидим, как многим обязан этот сын правоверного пастора-кальвиниста этому экстатическому протестанту-неофиту, вовсе не утратившему в своем крещении буквально кровный ветхозаветный профетический дар. У бедного Вайнингера, наверное, просто нет той диалектической динамической мощи или, скорее, изощренной неутомимости мышления, которой Юнг обязан был и своему учителю Фрейду, и Георгу Зиммелю, да и всей «философии жизни».
Именно такая вот идеалистическая статика настоятельно требовала от Вайнингера окончательного выбора: он делает его в пользу мужчины и в пользу арийца, в ущерб женщине и еврею. Не только потому, что он боялся сам быть женщиной (согласно собственной теории)[11] и не быть евреем (согласно собственному происхождению)[12]. Дело просто в том, что эти «последние вещи»[13] оказывались и первыми — первыми на уровне эмпирии, на уровне чувственного опыта требованиями реализма, понятого как… требование любви: можно нечто или отрицать и ненавидеть, или принимать и любить как нечто положительное, позитивное. Родовая и роковая печать позитивизма в прикровенном обличье, так сказать, мистического дарвинизма сопровождала нашего философа до самой могилы…
Та же потребность видеть и переживать духовное в материальном заставляла Вайнингера подробно — и до конца — обсуждать и проблемы морфологии и типологии. А ведь это те проблемы, что определили и Юнга, и Кречмера, и Клагеса, и Йенша, и почти что все самое ценное в пост-формалистическом искусствознании.
Самое существенное для Вайнингера — это то, что взаимодействие духа и материи, морфологии и типологии выражается физиогномически, причем «нет человека, который бессознательно не был бы физиогномистом» [Вайнингер 2012, с. 63]. Вот это слово — бессознательное, — именно оно определяет само ядро вайнингеровского мышления: убедительно даже не просто наглядное (физиогномика), а, так сказать, ненаглядное — восприимчивость, которая не нуждается для признания своей правоты в логике и дискурсивности, так как она доопытна, априорна (она — Бессознательное).
Другое важное понятие, объединяющее все три сферы, — это коррелятивность, соотнесенность разнохарактерного. Именно в этом случае вступает в действие «статическая психофизика» (вот она — эта статика!), которая позволяет находить типическое и вообще выявлять типы и типологию в несхожем, пробуждая потребность в постижении типа как идеи. Можно просто сказать — в выявлении абстрактного смысла в конкретном явлении, но нужно понимать, что способы выражения у Вайнингера точно соответствуют его главному желанию — осуществлению «воли к ценности», фактически — к оценке, причем именно к оценке крайностей, которые для него, повторяем, воплощены в напряжении между женщиной и мужчиной. Не будем углубляться в причины того факта, что о женщинах он говорит гораздо больше, настойчивее, и совсем не стесняясь…
Уклонимся также и от обсуждения «психологии садизма и мазохизма, убийства и наследственных грехов» (это подзаголовок посмертных «Последних слов») и перейдем к «дарованию и гениальности» вкупе с «дарованием и памятью» (две главы из двадцати, составляющих основной труд). Именно эти последние рубрики касаются нас непосредственно и научно: всеобъемлющее творчество и постоянно действующая сила возобновления утраченного. Хотя не следует исключать, что все прочие могут с нами соприкасаться как-то иначе и уже точно — вне науки, какой бы она нам ни представлялась.
Помимо общего эстетизма постулатов Вайнингера, его склонности к пропорциям и наглядности отношений, довольно легко выделяется еще одна — чуть неожиданная — черта, которая вполне, однако же, вписывается в общую палитру вкусовых предпочтений XIX столетия. Это специфический классицизм его представлений, когда, например, он рассуждает о динамике тех или иных состояний, указывая на постоянство и непрерывность, нарушение которых «действует волнующим образом», что, очевидно, не есть хорошо. Потому-то античность для него — именно типологический идеал, точка равновесия, и русских он характеризует со всей суровостью как самый «негреческий (неклассический) народ из всех народов» [Вайнингер 1995, с. 25].
Итак, идеал — гармоническое равновесие, которое может быть нарушено (и в реальности постоянно нарушается) и к которому следует стремиться. Вся теория Вайнингера была замыслена и изложена, как нам представляется, вовсе не ради М и Ж со всеми их половыми и социальными проблемами. «Женский вопрос» и «еврейский вопрос» — это или повод, или только материал, предназначенный для разработки идей, объединенных одним словом, которое — настоящий символ и не только концептуальный, но и экзистенциальный не только теории Вайнингера, но, в первую очередь, — его самого.
Генида между ассоциативной психологией и гештальтом
Это словечко — генида — происходит от греч. hen, т.е. один, хотя внешне слово напоминает гения в женском обличье, что совсем не случайно[14]. Сразу стоит упомянуть и о неслучайности другого рода: почему появляется новое слово, по содержанию столь напоминающее почтенную монаду Лейбница?[15] В конце концов, мы надеемся ответить на этот вопрос, но, повторяем, какие-то созвучия почти что бессознательного толка выглядят тоже как-то подозрительно убедительными (мы имеем в виду сходство греческих корней «ген» и «гюн»).
Мы вслед за автором слова пройдем постепенно, стадию за стадией тот мыслительный путь, что приводит его к этому центральному понятию, многое, повторяю, объясняющее и в его мыслях, и в его мышлении и, что самое существенное, в нем самом, а также и в его времени, и в науке того времени.
А наука эта нам совсем не чуждая. Ведь это психология восприятия как раз в такой стадии своего существования, когда она вот-вот должна была перейти из этапа предварительного созревания к поре своего зрелого бытия (можно было бы сказать, что перед нами этапы возмужания, но это слишком просто и слишком по Вайнингеру, а мы хотим сохранить некоторую дистанцию). Зачем нам нужна дистанция — мы выясним позже (не только ради независимости). Но сразу заметим, что речь идет о переходе от ассоциативной психологии, говоря традиционным и условным языком истории науки, к психологии, где другое слово на ту же букву, но немецкое, а не греческое окажется столь же ключевым термином (ключевым, в смысле, «отмыкающим»). Это, легко догадаться, гештальт. Сразу оговоримся, что это время — рубеж веков — время появления первых «Логических исследований» Гуссерля (1900), что тоже факт бесконечно символический и потому крайне значимый. Но его мы пока оставим в качестве фона, на переднем плане, повторяем, — фигура под названием генида…
Итак, краткая теория восприятия в версии только что ставшей экспериментальной психологии, которая тут же почувствовала, что одними эмпирическими данными много не сотворишь. Именно потому потребность в теории порождает весьма разработанную концепцию так называемых ассоциативных связей (или ассоциации идей). В этой концепции причудливо и примечательно (а также поучительно) соединились по тому же, принципу ассоциаций и романтизм вкупе с символизмом, и материализм, поддержанный позитивизмом.
Оставив разговор об ассоциативной психологии на потом, мы сейчас проследим за ее вариантом в версии нашего главного героя — Отто Вайнингера, который, между прочим, отводит ей весьма немалое место посреди своих достигших, вроде бы, крайнего накала рассуждений о духовной безнадежности женщины, не способной по своей природе выйти за пределы пола и т.д. Попробуем разобраться за логикой, бросавшей автора «Пола и характера» из одной крайней точки в другую.
И сразу скажем, что вся проблема теории восприятия в данном контексте — это уже нам знакомый переход от, казалось бы, совершенно непосредственного и потому достоверного процесса ощущений к процессу обработки этих данных с помощью мышления. Очевидно, что эти процессы, равно как лежащие в их основании способности — принципиально не схожи. Как же возникает связь? Что заставляет именно связывать воедино, то есть ассоциировать эти неоднородные, гетерономные процессы или просто явления?
Ответов может быть несколько. Один к тому времени стал и нормой, и почти историей. Это, несомненно, кантовская идея целостности, единства сознания как такового, которое первично по отношению к внешнему миру и к самому процессу познания и которое потому-то структурно предполагает наличие в себе той самой апперцепции, главенствующей доэмпирической инстанции внутри этого сознания, структурирующей, собственно говоря, само это сознание. Понятно, что эмпиризм, да еще подкрепленный позитивизмом, никак не мог ассоциироваться с этим постулатом.
Существуют интересные и важные моменты перехода от собственно Канта к неокантианству, не без влияния гегельянства. Эта трансформация эстетических и гносеологических теорий на протяжении XIX века, однако, повторим данную мысль еще раз, вынуждена была считаться и с упорным развитием так называемой экспериментальной науки, породившей некую концептуальную полу-химеру, полу-мифологему, а быть может, и точное выражение положения дел, под названием психофизиологический параллелизм. И этот термин возникает в эпоху, когда математика уже полвека как знала, что о параллелях следует говорить осторожно. Кстати говоря, вот пример классицизма и антиклассицизма, правда, в стадиально не совпадающих дисциплинах, отраслях знания. Это выражение, понятое как метафора, кажется очень удачным: ветви-отростки и некий ствол, который один и кажется единым, но который незримо, скрытым образом тоже теряет свою целостность на уровне корней, без которых он не может…
Но вернемся-таки к проблеме целостности психики, казалось бы, непоправимо расчлененной ощущениями и мыслями. Ассоциация возникает и обеспечивается через наличие еще одной инстанции, которую обычно называют чувством, что принципиально отличается от ощущения: это именно отношение сознания к своему наполнению. Мы можем говорить о настроении, но это слово не передает устойчивость, постоянство и отчетливость, и особое качество — значимость чувства. Неплохо, но неполно звучит — оттенок, окраска (мысли).
Однако это не просто нюансы: в чувстве как связующей инстанции должна быть именно некоторая сила, власть. Эта ассоциирующая сила должна именно обладать, владеть тем, что она связывает воедино, иметь право распоряжаться столь отдельными, специфическими и автономными процессами и, по сути, тоже силами. Так возникает идея, что речь должна идти не просто о чувствах-настроениях, а о состояниях-настроях, которые буквально настраивают или расстраивают, то есть выстраивают психику, придают ей некое сквозное целостное единство состава. Такое единство обеспечивается, если речь идет о некоторых самых фундаментальных условиях просто существования личности, наличием и проявлением некоторой наиболее фундаментальной инстанции-силы. И этой силой может быть, например, воля, которая к чему-то стремится, выстраивает систему целеполагания, предполагающую цельность и целостность как единство цели и способна добиваться цели. Это, в свою очередь, дает ощущение удовлетворения, за которым — чувство покоя, довольства и, что крайне важно, чувство удовлетворенности как переживание отдыха, снятия напряжения, которое было необходимо, пока цель была лишь искомой. Потраченные силы вернулись в виде осознания того, что они были использованы недаром. Это предельно точное обозначение и такой теоретической логики, и той системы, и той реальности, что она выстраивает.
Это реальность обменных отношений, построенных на принципе противоположностей, их уравновешивания за счет, так сказать, взаимозачета, именно буквально при условии выплаты счета. Это предполагает, правда, наличие цены, а главное — отсутствие того, в чем нуждаются, и что, тем самым, желают приобрести.
Так мы приходим еще к одной, как может показаться, конечной цельности: за напряжением, за равновесием, за энергией воли стоит сила оценки, воля к суждению и потребность суда. А оценка — это потребность, жизненная необходимость именно переживать свое существование как нечто процессуальное, подвижное, готовое выйти из равновесия. Но жизнь, покинувшая свои берега, грозит обернуться своей противоположностью, то есть смертью. Удержание баланса этих сил — вот главная забота сознания. Ради этого оно готово заплатить любую цену.
Но когда приходит осознание, что человек не в силах ни на каком уровне своего бытия самостоятельно, в пределах собственных возможностей обеспечить свое благополучие, но не в силах одновременно от него и отказаться, отвергнуть свое и право, и возможность, и желание существовать, тогда-то и приходит уже, как легко догадаться, вера…
Ассоциативная психология остановилась на признании сквозной силы гармонизации как именно согласования за счет обретения осознанных связей между действующими инстанциями. Философия жизни пошла дальше, осознав эту силу как не просто оптимальное состояние живого организма (это Фрейд, который весь в XIX столетии), а как состояние живущего организма, осуществляющего возможность и власть бытия. Вайнингер, о котором мы почти забыли, остается где-то на полпути, производя эту остановку-заминку, это замедление-задержку, делая это крайне оригинально.
В отличие от прежней эмпирической психологии, которую он именует «каким-то клейстером из ощущений» [Вайнингер 2012, с. 81], его собственная характерология основана на постулате «постоянно-единого бытия» (целое для Вайнингера — результат соединения субъекта и объекта, что дает «некоторый мир моего Я» [Вайнингер 2012, с. 81–82]. Это значит, кроме всего прочего, что «в каждом мгновении психической жизни заключен весь человек» [Вайнингер 2012, с. 82]. Это значит, что характерология как наука устанавливает (конституирует) существование определенного бытия. И наука напоминает художественное произведение, которое умеет справляться с характером, и наука должна поступать с объектом своего изучения точно так же. Она выполняет свой объект подобно выполнению художником своего заказа или просто исполняет свою познавательную работу, как исполняют замысел или роль. У Вайнингера можно даже найти выражение «отделка материала сознанием» (дизайнер предпочел бы отделать, наоборот, материалом что-либо). Собственно говоря, в этом есть, помимо эстетически-оформительского аспекта, еще и момент этически-воспитательный: человек должен уметь справляться со своим характером — и такова же и задача науки характерологии.
Другой момент, отмечаемый и обсуждаемый Вайнингером, своеобразная неоднородность процесса ощущения (чувствования), которая связана с первичной неясностью, неопределенностью, постепенно (довольно скоро) обретающей пластическую ясность. Это описывается как направленность (почти что интенция) к предмету ассоциации. Такого рода неоднородность процесса чувствования позволяет выявлять в качестве сквозного состояния ощущения всякого рода мета-состояния, которые суть переживания, как мы уже говорили, процесса протекания: удовольствие и неудовольствие, напряжение и разрядка. За этим легко угадывается общий цикл возбуждения и покоя. Нам еще придется обсуждать биполярный схематизм, но главное другое: Вайнингер вслед за Авенариусом предлагает заменить отношениями между «элементами» и «характерами», где первое —феномены чувственности (т.е. восприимчивости) как таковой, а вот второе — отношение к этим объектам. Здесь существенно то, что эти элементы, они же «идеи» или представления можно переживать психологически (не в смысле логически, т.е. мыслительно), причем не просто в качестве атрибутов при объектах, а в отношении того, насколько эти объекты рассматриваются реальными или воображаемыми [Вайнингер 2012, с. 93–94].
Вот тут-то и обнаруживается новаторство Вайнингера: он эту проблему видит буквально с точки зрения порядка, хода рассмотрения, выявляя тот факт, что по ходу рассматривания, размышления и т.д. постепенно выявляемые характеристики объектов обретают самостоятельное существование, они обособляются от объектов.
Для иллюстрации этой мысли Вайнингер пользуется весьма удачным и наглядным сравнением с церемонией открытия памятника, когда с него постепенно снимаются обвивающие покровы, слои ткани, обнаруживая под ним готовое произведение. Восприятие начинается с «предчувствия», а мышление — с «предмыслия». Так происходит с близоруким человеком или при создании произведения живописи: процесс длится, покуда в какой-то момент «все не предстанет в полном порядке, совершенной системе ненарушенной и стройной гармонии частей к целому» [Вайнингер 2012, с. 95].
В целом Вайнингер называет это «процессом просветления» и наделяет универсальным значением, распространяя его и на историю. Получается своего рода творческая эволюция, хотя возможен и путь регресса, связанный, между прочим, с процессом забывания (хорошо, что еще не дегенерации, как у Нордау[16]). Общий тон и, главное, подспудную логику всего этого порядка мысли, ее неизбывную, так сказать, генеративность, зависимость от дарвинизма как именно универсального взгляда на вещи, довольно удачно передает вайнингеровское сравнение процесса познания с восстановлением дороги или, наоборот, с зарастанием лесной тропы, когда «из юношеского „предмыслия“ (чуть напоминает „предместье“. — С.В.) развивается интенсивная блещущая „мысль”, так и от нее происходит переход к старческому „послемыслию“» [Вайнингер 2012, с. 96]. Все та же органическая теория, выраженная, правда, со всем свежим и неподдельным юношеским пафосом…
Генида между ретро- и интроспекцией
Из этих, так сказать, предрассуждений и возникает теория гениды, предназначенная для «выражения физических данных в первобытно-детском состоянии», когда «нельзя еще обнаружить ощущения и чувства как двух аналитических моментов, отделимых друг от друга с помощью абстракции» [Вайнингер 2012, с. 97].
Описывая гениду, Вайнингер прибегает еще к одному образу, а именно к сравнению с тем моментом, когда в разговоре забывается какое-то слово, оно как бы испаряется, а потом вспоминается снова. Вопрос в том, будет ли это самое нечто тем же самым, что и в момент забвения, или, несмотря на то же содержание, по форме оно будет иным, так как налицо иной момент времени, а значит, другая стадия развития? [Вайнингер 2012, с. 98] Мы видим, как важно для Вайнингера именно протекание времени и то, что было раньше — заведомо не просто менее совершенно, менее развито, а именно, менее определенно, более неясно и туманно. Самое же существенное — в этом меньше сознания, меньше рельефности. И, наконец, в этом отсутствует «фиксационная точка», необходимая для ориентации в «зрительном поле», как выражается Вайнингер, прибегая, как уже было замечено, к визуальным метафорам, точнее говоря, к метафорам визуального опыта.
Но самое примечательное в этой теории не только ее концептуальный пластицизм (говорится о «вполне дифференцированном пластическом ощущении») [Вайнингер 2012, с. 98], но и потребность осознавать эту самую гениду наподобие, так сказать, какой-нибудь куколки, или, лучше сказать, личинки: генида — это не абстрактная категория, а совершенно реальная (по мнению Вайнингера) и индивидуальная сущность на определенной стадии развития, и у этой сущности есть определенное содержание. И оно описывается совершенно по-фрейдовски, хотя это и не Фрейд, и заключается в том, что это переживания или события раннего детства. Генида — это форма или состояние сознания в ранней нерасчлененности (недифференцированности), неразвитости и, главное, нечувствительности. Поэтому содержание гениды — «инстинктивный опыт» (Вайнингер здесь пользуется уже понятием Маха) [Вайнингер 2012, с. 100].
Еще сильнее психоаналитическая тема звучит, когда Вайнингер говорит о том, что «превращать бессознательное в сознательное — это половая функция типичного мужчины по отношению к типичной женщине»» [Вайнингер 2012, с. 100]. Тем не менее, фундаментальное отличие от Фрейда состоит в том, что для Вайнингера — это поступательный процесс, его мышление — генетическое, Фрейд же — это уже структурный подход, он мыслит в рамках «топической» модели, сознательное и бессознательное — соприсутствуют и взаимодействуют, и содержание психики — в связях этих топосов, этих пространств локализации несхожих систем. У Фрейда постоянный конфликт — условие функционирования психики, у Вайнингера — борьба должна закончиться победой любой ценой, причем победа может быть и справедливой, или вопиюще дегенеративной (если исполняется или нарушается логика поступательного развития, развертки свойств и состояний, и способностей).
Мы еще раз обращаем внимание на визуальные и пластические аспекты этой теории: они — истинный ключ к уразумению всей подобной логики, так как она заключается именно в обретении ясного взгляда на исследуемую вещь, а для этого вещь должна сама позаботиться, чтобы ее можно было бы, так сказать, приятно и прилично, удобно, комфортно и, как следствие, продуктивно рассматривать (чем не «прегнантный гештальт»?)
Можно сказать, что для Вайнингера не просто важна оценка (поэтому он именно критик, а не терапевт), ему существенно необходимо ощущать себя именно пользователем, он не исследователь, а потребитель, причем крайне требовательный и разборчивый…
Суровейшая, роковая и жесточайшая проблема — не только концептуальная, но экзистенциальная — заключается, по-видимому, в том, что таковым предметом отстраненного наблюдения-разглядывания для Вайнингера выступало именно сознание, именно психика, причем не вообще человеческая, а очень конкретная и наиболее ему близкая — его собственная. Можно сказать, что наш автор — и гений, и жертва интроспективного метода.
Как и когда взрослый (?) мужчина сможет забыть, что он когда-то был личинкой-генидой? И парадокс заключается в том, что, только вспомнив об этом, он сможет развиваться дальше. Но что там дальше — мудрость старца или слабоумие старика? Нет ли во всем этом подозрительного и неприятного цикла, который может быть и жизненным, а может, и смертным…
Но выскажем и более странную, на первый взгляд, мысль: а нет ли в этом страстном желании Вайнингера приписать все генидные свойства и признаки Ж, быть может, не совсем осознанного, но благородно жертвенного желания защитить это самое Ж от всех скорбных и горьких плодов развития (мол, не женское это дело, борьба за существование и адаптация к не-существованию). Хотя, конечно же, мысль о том, что перед нами типичный случай проекции с отрицанием, выглядит более очевидной. Тем не менее, нельзя отвергать и предположение, что перед нами случай, так сказать, инфантильной рыцарственности…
Но за этим может таиться и особая метафизика, потому что стоит обратить внимание на не то чтобы немотивированную, но какую-то утрированную агрессию по отношению к определенной типологии, самим же Вайнингером и выявленной (Ж). А стоит ли допустить — в качестве некоторого снисхождения и человеколюбия, что за этим стоит попытка обрести окончательную истину, которая бы снимала не диалектически, а совершенно тотально, раз и навсегда все противоположности?
Таковым окончательным решением всех этих вопросов может быть вовсе не жизнь, которая по определению конфликтна и неоднородна, ибо она процесс. Полная остановка возможна, только если брать себе в союзницу ее противоположность — смерть.
Вайнингер — это опыт смертности как возможного выхода и средства избавления. Это не-бытие, которое, как кажется, способно и готово утешать… Попробуем решить, насколько не практически, а теоретически это возможно, ведь практику Вайнингер осуществил, найдя выход ровно в 23 года, уйдя в неизвестном направлении, хотя предполагал, что вслед за гением Бетховена.
Зато на почве концептуальной мы обнаруживаем, так сказать, спасительную безвыходность этой теории, причем ее именно благая, утешительная несостоятельность заключена в ее эстетических качествах, которые, как мы видели, необыкновенно разнообразны, о чем стоит поговорить подробно.
Принципиально здесь именно то, что необходимость созерцания связана с неизбежностью, в рамках этого подхода, как мы уже упомянули, дистанции как условия отстраненного и, как может показаться, объективного, фактически незаинтересованного рассматривания.
Наша мысль состоит в том, что потребность в цельном образе, в том числе и собственных мыслей, собственного мыслительного процесса, заставляет не просто отстраняться и не просто избирательно взирать на явления, но формировать их облик и создавать их образ, испытывая, соответственно, чувство удовлетворения или, наоборот, неудовольствия, когда объект или попадает в благоприятное поле зрения, или искажается неверными условиями восприятия. Напомним, что в данном случае речь идет о собственном мышлении и собственных чувствах. В этом случае мы имеем дело, так сказать, с эстетикой нарциссизма, которая, между прочим, требует и своего риторического подтверждения, когда важно связанно и внятно воспроизвести опыт подобной художественной интроспекции. Впрочем, почему бы не подумать и на такую тему: не есть ли эстетизация-отстранение от объекта рассмотрения и разновидностью эйдетической редукции? Проблема в том, что Вайнингер не очень представлял, что же делать с «отходами» этой эпохи? Ведь там, в этом «помойном ведре»[17] могло оказаться и собственное Я. То есть, Вайнингер и не Гуссерль, и не Перлз…
И все сказанное — исключительно ради изложения и истолкования теории Вайнингера, касательно его пресловутой гениды, по-русски, к сожалению, имеющей не очень привлекательные фонетические коннотации (например, гнида), хотя можно сказать и так: если мы поймем гениду, то поймем гения, а тогда и — Вайнингера.
Гений — планетарно и плацентарно
Итак, теория гения, у которой в изложении Вайнингера есть весьма примечательные особенности.
Самое существенное — это преодоление всех ограничений обычного, собственно говоря, типичного процесса познания, который как раз и связан с этой почти невыносимой генидой, ибо она — напоминание о детстве, в которое не только неприятно и неловко, но просто неудобно всматриваться — так там все расплывается и совершенно несфокусированно, и из-за расстояния, и из-за нескладности, неполноценности объекта всматривания. Все это печать временной дистанции.
Но что если взглянуть на нечто синхронное, единовременное с самим созерцателем? Если взглянуть на собственное Я не дистанцированно?
Этим и занимается Вайнингер, традиционно различая «понять» и «познать», хотя все-таки для него важно и нечто третье — «изобразить», ибо искусство для него — идеальная форма общения с объектом, так как оно — слияние.
Но чтобы понять, необходимо иметь сходство, более того: это требование предельное. Необходимо быть этим человеком, иметь его в себе [Вайнингер 2012, с. 104]. Эта утробно-материнская метафора — почти как оговорка в устах женоненавистника, но важнее иное: за всем стоит потребность воспроизведения и потому познающий человека мыслитель — как исполняющий роль актер. Проблема лишь в том, что познать таким способом себя — задача невыполнимая. Плацентарное сознание — не планетарное…
Правда, есть исключение — это гений, который, напомним, имеет для Вайнингера смысл характерологический и типологический. Он — предел, термин в буквальном смысле слова, и если есть «операторы», то гений — это «терминатор» (и ничего, что у этого слова есть более ходовой смысл). Другими словами, это понятие необходимо как реальность, как средство и способ разрешения практически всех эпистемологических и не только проблем.
Но для этого необходимо описать абсолютного гения, а описать — значит понять, стать им, разыграть из себя его… Вот еще один экзистенциальный барьер на пути несчастного Вайнингера.
Заговорив о барьерах и прочих преградах, как на пути взгляда, так и на путях жизни, мы должны вернуться к проблемам ассоциативной психологии с ее параллелизмами. Они могут быть далеко не только психофизическими, Вайнингер, как мы убеждаемся, может предложить и психоэстетические, и психоэтические параллелизмы. Но одна из аналогий опять-таки бросается в глаза: по большому счету всякого рода усилия по установлению связей, эквивалентов и подобий — в самых разнородных сферах, есть практика и техника толкования, это своего рода экзегеза, предполагающая именно нестыковку, непересечение планов и уровней в обычных условиях существования текста, когда он понимается напрямую, читается без затруднения. Активизация всех или части слоев-коннотаций неизбежна, когда первый план кажется не полным, почти что не существующим (не имеющим смысла).
Одна проблема — выяснить, какой план первый (тот ли, что можно потрогать, в широком смысле слова, — тот, например, что трогает?). А другая — понять, какова позиция наблюдателя. Между прочим, если он соприкасается с текстом, то один из планов, а именно тот, в котором он сам пребывает, как раз оказывается недоступным. Именно так выстраивается — по необходимости — вся эта оптика и система перспектив, имеющая дело с зонами доступности или недоступности, которые маркируются, в том числе, и всякого рода препятствиями (мертвыми зонами смысловых фрустраций, например, или странных слов, или необъяснимых выражений, или просто противоречий и путанности мысли).
Но другой круг вопросов — это направление взгляда, который может быть не только строго перпендикулярным системе планов. Это может быть и взгляд по касательной, или взгляд, опущенный вниз или вверх. Ландшафты созерцания могут иметь крайне разнообразный рельеф. Ведь человеку, свободно взирающему на смысловое раздолье вокруг него, видится одно, а человеку, сосредоточенно опустившему взор, или пугливо озирающемуся, или печально скользящему отстраненным взглядом, — другое. Можно глядеть не только на просторы смысловых полей, но и на заросли сомнительных истин, или просто опасливо заглядывать в темный колодец с невидимым дном, где притаились уже совсем непостижимые значения. Кстати говоря, и в этом случае можно говорить о горизонтах-уровнях, о тех же грунтовых водах, то есть водоносных слоях, поставляющих в стоячие воды естественной установки новые порции влаги или смысла…
Стоит обратить внимание, что на заднем плане всех этих конфигураций смыслового пространства обязательно присутствует образ тела, человеческой телесной конституции вообще со всеми ее двигательными возможностями, лишь одна из которых — активность глаза, динамика взгляда, движение взора. Более того, психомоторика тела, в свою очередь, — только один из модусов телесной восприимчивости, чувствительности плоти, открытой и активной психосоматики…
И такого рода «семантическую поэтику» можно было продолжить до бесконечности, если бы не одно уточнение: речь идет об изоморфизме исключительно смысловых отношений, о пространстве сознания, имеющих дело с «интенциональными объектами». Психофизический параллелизм тем-то и примечателен, и проблематичен, что пытается описать вещи реально чужеродные, трансцедентально в себе. Поэтому единственно возможная топика, конфигурация отношений — это именно образ параллельных планов, которые пронизываются еще одной силой — именно разума, напоминающего ситуацию в квантовой механике, где свет точно так же не взаимодействует с другими силами…
Отчасти это было подхвачено и развито в гештальтпсихологии, где речь идет об универсальном отношении фигура/фон. Между прочим, характеристики этого фона чрезвычайно напоминают всю ту же гениду, за одним исключением: это тоже отношения структурные, то есть синхронные. Кроме того, фон принципиально недоступен для разумного восприятия, он не дискурсивен, и в этом нет его вины, и он никогда не станет фигурой, но будет обеспечивать ее существование. Ему не надо развиваться, фон не генида.
Вернемся, однако, к гению, точнее говоря, к его концепции. И, наверное, самым специфическим в этой концепции будет связь, отношение гения к времени, что выражается в памяти. Гений не просто помнит все, он именно ничего не забывает, для него просто не существует прошлого, ибо все пережитое им остается в его сознании, оно способно все вместить. Великий человек — победитель бессознательного, которое одно есть забвение, ибо оно — незаинтересованность, равнодушие, апатия, буквально — беспамятность (обращаем внимание, что для Вайнингера, в отличие от Фрейда, бессознательное как состояние ближе именно к состоянию обморока — когда человек оказывается без/с сознания). «Память есть… преодоление времени, победа над ним» [Вайнингер 2012, с. 126].
Такое возможно, если остро переживается именно ценность пережитого, непосредственный и острый интерес к жизни, что выражается и в тяге к бессмертию (острота переживания концентрируется в одномоментности переживания, в характерном мгновении ока, напоминающем и обещающем бессмертие). Вообще, «ценность и есть это вневременное» [Вайнингер 2012, с. 127], поэтому-то ценное — это, к чему стремятся, чего добиваются, что оценивается безусловно положительно («только вневременным вещам дается положительная оценка» [Вайнингер 2012, с. 127]). «Стойкая убежденность» всегда внушает уважение, что проявляется и в безжизненных предметах (Вайнингер вспоминает здесь, конечно же, Горация и его вечную медь, и его пирамиды [Вайнингер 2012, с. 127]). Они — именно напоминание о вневременном, они памятники, знаки времени и потому-то они — предмет сохранения и сбережения в самых разных формах, как не без сарказма указывает Вайнингер, упоминая в одном ряду и амбар, и склады, и погреба, и музеи [Вайнингер 2012, с. 129]. Особенно, заметим, выразительная связь музея с погребом, ибо за последним маячит и гробница…
Иной способ преодоления времени — это, конечно же, законодательство, претендующее на неизменность и возобновляемость своих установлений. Поэтому гений — это и основатель, например, религиозных систем, творец догматики. Но более того: гений как «универсальный человек» — творец самого времени. Он — вообще творец, все созданное им — это именно произведение, нечто произведенное на свет и рожденное на века ради «вечной длительности» (Вайнингер, несомненно, читал Бергсона).
Гений есть и творец языка, причем в его первичной форме как поэзии. Именно благодаря неведомым гениям язык обрел когда-то бытие, будучи в своей первичнейшей и чистейшей форме именно системой тропов, метафор и, соответственно, чистой декламацией, то есть речью, а не письмом. Поэтому-то от первоначальных гениев ничего не осталось. О них нет и не может быть памяти, ибо они сами — творцы памяти, они прежде нее и потому они непостижимы. И потому «появление гения останется тайной» [Вайнингер 2012, с. 131] (нам не дано быть знакомыми с авторами языка: для нас они не умирают, потому что просто не рождаются…).
Поэтому занятие этимологией, с точки зрения Вайнингера, сродни мистическому опыту, акту благочестия (он ссылается на Бёме [Вайнингер 2012, с. 132]), а научная критика языка — почти кощунство, посягательство на тайну. Итак, эмбриология, можно сказать, оправдывается этимологией, правда не без этиологии, не без диагностирования человеческой посредственности, значение которой — лишь опосредование великого человека и его предназначения…
Так, через язык и, соответственно, Логос (Вайнингер поминает Его как Христа) мы подходим к самой сути гения: он есть «связь с абсолютно вневременным» [Вайнингер 2012, с. 133], то есть с той ценностью, которая «дает их произведениям вечный смысл» [Вайнингер 2012, с. 133].
И как конечный вывод — дефиниция гения: «титулом гения можно наделять только великих художников и великих философов» [Вайнингер 2012, с. 133]. И, между прочим, ни один ученый, самый великий, не может претендовать на звание гения: наука требует «самоотверженных бойцов», она пренебрегает личностью, ее цель — «сверхиндивидуальный опыт». Ученый призван к «самоотречению» (кавычки Вайнингера) и из-за преданности знанию человек науки «отказывается от вечности». Иными словами, самость, но не самоотреченность — и полный набор признаков ветхозаветности. Воистину, понимаешь, как тяжело ветхому в нас человеку умереть, даже несмотря на крещение, и как нелегко родиться в нас новому, даже согласно нашему же и желанию!
И как явно гений Вайнингера связан с генидой! Так и хочется его переименовать в какого-нибудь геноида (по аналогии с ломброзовским маттоидом [Ломброзо 2000, с. 135 и далее][18].
Хотя, видимо, по замыслу Вайнингера, мы должны были найти в гении скорее сходство с Божеством, с Творцом, по крайней мере, с демиургом, хотя у него можно встретить и сравнение «природы гения — с природой Протея» [Вайнингер 2012, с. 105]. Опять — предвосхищение, но уже Зедльмайра, правда с обратным знаком, ибо для этого венского историка и теоретика искусства, демиургизм и протейность, если не приговор, то точно диагноз [Зедльмайр 2008, с. 419–422]. Хотя, с другой стороны, Гертруда Стайн несомненно воспроизводила вайнингеровское описание мучительной цикличности творчества гения, когда свидетельствовала об особенностях творческого процесса Пабло Пикассо, у которого беспредельное возбуждение и продуктивность чередовались с почти смертельным бездействием и беспомощностью[19].
Казалось бы, на таком вот подъеме почему бы не закончить книгу (и, соответственно, статью)? Но, трудно поверить, основное у Вайнингера только начинается. Как выясняется, «Пол и характер» отличается совершенно неровным характером (да и пол, если представлять себе книгу как пространство некоего помещения, тоже не совсем на уровне). Где-то с середины изложения, не только тон, но сами основания книги не столько колеблются, сколько просто заменяются на совершенно иные. Неужели Вайнингер пожелал свою гениальность явить столь наглядно — подтверждением своего же тезиса о протейной природе гения? Дарвинизм, биологизм и эволюционизм сходят со сцены: новый акт пьесы — новые декорации и новые участники. Представление продолжается чуть ли на фоне феноменологических задников с главными задействованными исполнителями в лице Липпса и Гуссерля… Следующая глава посвящена «памяти, логике, этике», далее — развенчание «психологизма» и триумф автора — пока еще — только «Логических исследований», вышедших, напомним, в 1900 году, тогда же, когда и «Толкование сновидений».
Очень показательны перемены в метафорах: прежде речь шла о памятниках, пусть и обернутых влажными покровами, теперь же о прежней психологии говорится, что это «груда мертвых камней», что правда, так как все это ничто, руины и развалины перед лицом единственной реальной реальности — живой вещи. Именно ей отдается теперь Вайнингер, укрепленный трансцендентальным методом Виндельбанда, Когена, Наторпа и Гуссерля [Вайнингер 2012, с. 136].
Подобный неокантианский переход к феноменологии — самое интригующее и по-настоящему важное во всей этой книге: перед нами максимальное показательное измерение всех подобных противоречивых концептуальных сюжетов книги, так за этим — судьба всего гуманитарного знания той эпохи. И искусствознание в этой ситуации не затерялось.
Но обрел ли себя Вайнингер? Опыт чтения соответствующих глав, многообещающе озаглавленных «Память, логика, этика» и «Логика, этика, „я“» вынуждает признать, что симптоматические проблемы не оставляют автора «Пола и характера», даже когда он, казалось бы, пытается порвать с биологизмом и эмпиризмом…
Сначала все выглядит очень неплохо: «человеческая память стоит в самом близком родстве с вещами» [Вайнингер 2012, с. 137]. Как точно сказано дальше: ассоциационная психология «сначала разъединяет психическую жизнь и затем снова пытается спаять ее притяжением отдельных частей сознания» [Вайнингер 2012, с. 138]. Как напоминает гуссерлевскую ретенцию живое «осознание непрерывного прошлого» [Вайнингер 2012, с. 138]. За всем этим — «потребность бессмертия», что есть «глубочайшая сущность человечества», его «апперцепционный центр», в котором совершается «несомненное отрицание» времени. Психика — вне времени. Но дальше возникают некоторые специфические трудности, так как в ход рассуждений вторгается следующее положение: «основания (мыслящего человека. — С. В.) всегда связаны с его прошлым» [Вайнингер 2012, с. 141–142]. Почему с прошлым? Да потому-то, что прошлое — это предшествующее, а с ним связано понятие причинности, то есть предваряющей цепочки отношений порождающего свойства, в которых задействовано мышление, — и больше ничего. Так и возникает логика, как единственное основание всякого существования. А у логики — функция нормативная, что сугубо проявляется в законе тождества. Ему и только ему Вайнингер придает характер универсальный и фундаментальнейший.
Потому что тождество для него — синоним или эквивалент единства и целостности, то есть настоящего, того, что «возвышается над временем и изменчивостью». И этот центр апперцепции — не что иное, как личность, субъект.
Смысл этого приближения к личности — очень и очень значителен, это символ чего-то крайне существенного не только в судьбе отдельно взятой личности по имени Вайнингер, но и в предназначении всего подобного миросозерцания.
Вайнингер выражается предельно отчетливо: человек дифференцирован, он сложно устроен, его части неоднородны, но что-то их связывает они ведут себя как монады, как индивидуальности (вот, между прочим, и появляется очищенный и возвышенный эквивалент гениды). Каков же этот «психологический коррелят»?
Вайнингер говорит о «существовании у человека нуминального, трансэмпирического субъекта» [Вайнингер 2012, с. 146]. И это выражение довольно показательно: человек в себе содержит некое сверхобычное начало как буквально отдельную личность. Некое высшее существо.
Обоснование такого сверхприсутствия — логическое и этическое. Закон тождества непреложен, логика призвана торжествовать, потому что за этим стоит «абсолютное постоянство и абсолютная однозначность» [Вайнингер 2012, с. 148]. Эти понятия для него — чисто этические, это ценности и норма, которые Вайнингер поэтому тщательно (как ему кажется) отстраняет от всякого рода вопросов метафизических и онтологических: ведь «понятие есть норма сущности, не существования» [Вайнингер 2012, с. 148]. Фактически, это отстранение от жизни, ведь она текуча и изменчива, поэтому может утечь и изменить как всякий человеческий опыт. От него следует отделять понятие как норму, она даже не сущность, она — «устойчивая неизменность и замкнутость» [Вайнингер 2012, с. 149]. Еще раз — оно выражение бытия, которое «не ставит себя в зависимость от действительного существования объектов» [Вайнингер 2012, с. 149].
И что же это такое, что никогда не может стать объектом? Вайнингер говорит достаточно неосторожно: положение логического тождества А=А — это выражение, это раскрытие существования субъекта, того, что или кто «никогда не может стать объектом». Парадокс или просто нарушение именно логики, заключенное в этих рассуждениях, состоит в том, что существование субъекта ставится в зависимость или соотносится с существованием понятия, пусть и нормативно-логического. Уже так субъект превращается в объект – для выражения и для положения понятия, постулата – как ни назови.
Если существует положение, выражающее неизменность, то должно существовать и «нечто неизменное» [Вайнингер 2012, с. 150]. Это не просто тавтология или подмена логики риторикой, это нечто принципиальное иное. Ведь по Вайнингеру, логические аксиомы суть «принцип всякой истины» [Вайнингер 2012, с. 150]. Это, во-первых. Во-вторых, «они полагают бытие, к которому стремится, направляется сознание» [Вайнингер 2012, с. 150]. И, наконец, «логика есть закон, которому должно повиноваться» [Вайнингер 2012, с. 150]. Более того, человек только тогда оказывается человеком, пока он не есть «воплощение логики».
Мы специально так подробно и буквально воспроизводим данное рассуждение, чтобы показать его даже не риторическую (хотя это есть), а теологическую подоплеку. Причем ветхозаветная логика закона подчинения и повиновения (от слова «вина») с трудом уступает место несколько анонимной логике воплощения. Причем за этой анонимностью, неназываемостью Того, Кто воплотился и воплощается, Кто предваряет всякую логику и ее порождает (и не только ее), Кто воистину делает мысль благом, а логику оправдывает этикой, Кто превышает всякую свободу выбора, ибо Ему нет никакой альтернативы, Кто единственный «не подлежит закону причинности», так как Он и есть Причина, и Он — Един, так вот, Ему у Вайнингера не находится до поры и до времени иного именования, кроме как Я…
Вайнингер каким-то непостижимым образом пытается говорить о Боге в первом лице, вернее сказать, от первого лица и даже о Первом Лице, ведя, однако, разговор от третьего лица. У него каким-то специфическим образом логика грамматическая чередуется с логикой теологической. Почему, на самом деле, не называть вещи своими именами и не говорить, не свидетельствовать о Боге, как Он есть, зачем этот постоянный Я-субъект? Только ли это проблема неофита, еще не привыкшего обращаться к Отцу через Сына и в Сыне?
Кроме того, это логика именно порядка разговора, рассуждения, расположения и развертывания текста, разоблачающего своего составителя, выступающего как тот поток сознания, как-то самое сновидение, что способно многое поведать о сновидце, даже если он — духовидец, не следящий, так сказать, за своей речью и проговаривающийся, вместо того, чтобы слышать иные речи и речи Иного…
В лице Вайнингера, вероятнее всего, ветхий закон и новая благодать только на пороге слияния в одну единую то ли монаду, то ли гениду. Последняя — все еще испуганная и отчаянная, пытается кантовскую проблематику априорных синтетических суждений разрешить стремительным рывком сквозь сомнения практического разума, сквозь логику этического поступка к неподсудной логике творческого акта — незаинтересованного и игрового, порождающего творения на основании суждения вкуса, у которого (суждения) — привкус безумия…
Но как разрешается это противоречие, как и когда позитивист становится врагом позитивизма, благодетелем человечества и гением, отвергающим его, новообращенным протестантом, не ведающим Слово Божье, – и все в одном лице? Можно сказать так: перед нами не столько ученый трактат и совсем не философский памфлет, а скорее в некотором роде дневник обращения или обольщения. Но в любом случае — это художественно оформленная фиксация душевных перемен, происходивших на протяжении времени написания этого текста.
Еще раз обсудим, какова в этом роль сознания и какова функция текста.
Текст как бы сам свидетельствует о своем авторе, потому что это именно рассказ как порядок повествования, это нарратив, который занят в первую очередь тем, что возвращает время, даже если на протяжении всего его (текста) течения, это самое время отрицается, упраздняется и проклинается. Оно все равно является во всей своей силе и власти как откровение и разоблачение — и малого, и великого…
Великое разоблачение — это то почти трагическое обстоятельство, что перед нами лишь одно из многих обличий времени — время механическое и историческое. Малое, но конкретное, что обнажается в тексте Вайнингера, — это нетождественность автора самому себе в начале и в конце рассказа. Эта в первую очередь неровность и неравность мнений, убеждений и состояний души и духа, которые не просто видоизменяются или преодолеваются, а чередуются и заменяются один другим, а лучше сказать – накладываются, наслаиваются и даже надстраиваются. Как будто что-то строится и одновременно ломается. Вопрос — что же это за сооружение…
Можно сказать, конечно, что автор откровенно непоследователен. Но вернее сказать, что текст открыто последователен. Ведь автор, избрав жанр философской проповеди и поэтического пророчества, преисполнен старания и усердия и потому выкладывается, но не в пустоту (она его отвращает) и не в реальность вовне (она его не привлекает), а в сам текст, он отдается ему, его структуре и его протеканию и течет вместе с ним, обнажая невольно и бессознательно то, что происходит в его (автора) душе. А там — разрывы и отсутствие самоподобия, неспособность саморепрезентации. Это может быть и хорошо, если бы это не противоречило воле автора и его убеждениям: он занят саморазоблачением, хотя думает, что занят построением окончательной системы убеждений. Он убеждает только себя (да и то не в полной мере), но не читателя и не сам текст, который вынужден сопротивляться, потому что он сильный (по своему типу) текст и ему трудно выдерживать над собой насилие. Дискурсивность трактата нелегко превращается в риторику памфлета…
Так и выходит, что мы видим, как заявивший себя в начале материалист-эмбриолог и творец гениды к середине текста превращается в неокантианца-духовидца, абсолютного субъективиста и мистика-солипсиста.
Но разоблачение не в этом. Это можно объяснить и тем, что в начале решаются вопросы эмпирической психологии, от которой можно отказаться на более высоком уровне рассмотрения проблем, когда речь идет уже о религиозной философии, о логике и этике.
Но на самом деле, именно процесс писания, порядок изложения заставляет совершать редукцию прежнего ради другого, просто противоположного: мысль исчерпывается, но не покидает пространство сознания и способ ее отчуждения — вынесение ее не просто за скобки философского развертывания, а за скобки бытия осмысленного. Для этого-то необходимы все эти «опасные вещи», если пользоваться выражением Лакоффа[20], все эти вызывающе нелепо-бисексуальные гениды, мифически-сомнительные гермафродиты, вынужденно-несчастные педерасты, беспринципно-аморальные женщины и животно-бездуховные единоплеменники.
Это радикальное отрицание-упразднение как своего рода погребение — помещение нежелательного или болезненного в понятийные резервуары-емкости, концептуальные гробницы, которые достаточно недоступны, потому что являют собой абсолютное отрицание, негативизм, доведенный до символического умерщвления. Лишь бы не признаться, что все это остается в душе, а душа — в крипте невроза (в лучшем случае).
Но даже, если ничего не остается в душе, если акт забвения-умерщвления произведен был успешно и безупречно, все равно все остается в тексте, который, как всякая крипта-убежище, не совсем герметичен и в него не возбраняется заглядывать. И нам как читателям становится понятно, что если бы не все выше обозначенные псевдо-сущности, то все это оставалось бы в душе Вайнингера, и он не смог бы ощутить себя абсолютным Я и, фактически, не смог бы осуществить акт самообожествления.
Хотя, если честно, это был акт сотворения кумира[21], некоторого квазисакрального монумента, который всегда посмертен, предназначен для посмертного употребления, даже если созиждется при жизни объекта поклонения. И если творец кумира совпадает с объектом кумиротворения, то начало культа совпадает с концом жизни, во всяком случае, с избавлением от бренной телесности и перехода в телесность памятника, который тут же превращается в гробницу (не напоминает ли, между прочим, описанная Вайнингером церемония открытия памятника со всеми этими развеваемыми и почему-то влажными покровами зеркальное отражение процесса мумификации или, наоборот, археологически-музейного раскрытия мумии?).
Впрочем, с погребением душа могла свыкнуться уже при жизни: сама книга — целые поля могильников, в которых были рассеяны и спрятаны самые разные ценности. Схоронить — значит сохранить, но и наоборот. Такова логика всякого идола и всякой души, задержавшейся на стадии зеркала и не способной оторваться от самосозерцания и самолюбования…
В самом начале главы о природе «я», Вайнингер упоминает о теории происхождения этой инстанции из особенностей речевых актов: этим словом принято обозначать источник речи, точку исхождения словесного потока-сообщения и не более того (Юм, Лихтенберг). «Я», получается, — проблема грамматики. Мы бы сказали — это проблема нарратологики, это проблема и порождение разговоров о «я» — о собственном «я», которое есть сокровище, растворяющее и упраздняющее мир, заставляющее его делаться невидимым. А ведь мир — коррелят души…
Если бы Вайнингер перечитал собственные — совершенно пророческие слова: «наконец, кто себя убивает, тот убивает весь мир»! [Вайнингер 2012, с. 169] Думаешь, наконец-то мы их услышали, эти разумные и даже мудрые речи зрелого мужа... Но в том-то и дело, что он хоть и написал их, но не услышал! Возникает ощущение, что это не конец, если произносящий слова премудрости, сам же их и не слышит, и не принимает за истину и правду…
Тем не менее, мы на этом вынуждены прерваться, ибо впереди у Вайнингера и у его текста – мизогиния, антисемитизм и меланхолия…[22] Впереди — весь двадцатый век, который к концу 40-х годов практически позабыл о своем чуть не состоявшемся пророке[23], а в 60-е — вспомнил — с самой болезненной актуальностью.
Итак, урок Вайнингера в двух словах: произведение искусства (литературный текст) способен и спасти, и оправдать теорию, а может и разоблачить ее, если к творчеству относиться как способу самообмана, самовнушения или самоотторжения («самоненависти»[24]). Текст и теории потому могут быть самоубийственными. Их авторы умирают внутри них, ради них и из-за них. Но не всегда, увы, вместе с ними.
Литература
- Вайнингер 1995 – Вайнингер О. Последние слова. Киев: Port-Royal, 1995.
- Вайнингер 2012 – Вайнингер О. Пол и характер. Принципиальное исследование. М.: Академический проект, 2012.
- Зедльмайр 2008 – Зедльмайр Х. Утрата середины / пер. с нем. С. С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
- Ломброзо 2000 – Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Минск: Попурри, 2000.
- Фрейд 1999 – Зигмунд Фрейд. Хроника-хрестоматия: учебное пособие / под ред. Вал.А. Лукова, Вл.А.Лукова. М.: Флинта, 1999.
- Фрейд 2006 – Фрейд З. Два детских невроза / пер. А. Боковикова. М.: СТД, 2006.
References
- Weininger, O. (1995), Poslednie slova [Last words], Port-Royal, Kiev, Ukraine.
- Weininger, O. (2012), Pol i kharakter. Printsipialnoe issledovanie [Gender and character. Basic research], Academic project, Moscow, Russia.
- Zedlmayr, H. (2008), Utrata serediny [Loss of the middle], Publishing house “Territory of the future”, Moscow, Russia.
- Lombroso, C. (2000), Genialnost i pomeshatelstvo [Genius and insanity], Popurri, Minsk, Belarus.
- Sigmund Freud. Khronika [Sigmund Freud. Chronicles: textbook], Flinta, Moscow, Russia, 1999.
- Freud, S. (2006), Dva detskikh nevroza [Two childhood neurosis], STD, Moscow, Russia.
[1] Weininger O. Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, Wien; Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1903. Лучший русский перевод (из весьма многочисленных) см.: Вайнингер О. Пол и характер. Теоретическое исследование / Пер. с нем. В. Лихтенштадта; под ред., предисл. А.Л. Волынского. СПб.: Посев, 1908. Цит. по изд.: Вайнингер 2012.
[2] См.: Le Rider, J., “Modernismus/Feminismus – Modernität/Virilität. Otto Weininger und die asketische Moderne, Ornament und Askese“, Im Zeitgeist des Wien der Jahrhundertwende, Alfred Pfabigan (Hrsg.), Brandstätter, Wien, 1985, S. 230–241; Sengoopta, Ch., Otto Weininger. Sex, Science, and Self in Imperial Vienna, University of Chicago Press, Chicago, 2000.
[3] Как известно, роковая и окончательная размолвка между Фрейдом и Флиссом произошла при личной встрече 14 мая 1900 года, когда последний с изумлением обнаружил в излагаемых Фрейдом взглядах о первичной и универсальной бисексуальности человека свою собственную теорию, категорически отвергнутую Фрейдом за три года до этого (Фрейд отрицал сам факт разговора на эту тему в 1897 году и был уверен, что он – автор этой теории). См., в частности: Фрейд 1999, p. 105.
[4] См. позднейшее издание: Eros und Psyche. Studien und Briefe 1899–1902, Rodlauer, H., (Hg.), Sitzungsberichte der philosophisch-historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1990. Наиболее полное издание текстов Вайнингера см.: Otto Weininger. Werk und Wirkung, Hg. von Jacques Le Rider und Norbert Leser, Wien, 1984.
[5] См. самые первые работы как прямые реакции на «случай Вайнингера»: Probst, F., Der Fall Otto Weininger. Eine psychiatrische Studie (Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzel-Darstellungen für Gebildete aller Stände. Band 31), Wiesbaden, 1904; Lucka, L. Otto Weininger. Sein Werk und seine Persönlichkeit, Wien, Leipzig, 1905; Saudek, R., Gedanken über Geschlechtsprobleme von Otto Weininger, Berlin, 1907; Dallago, C., Otto Weininger und sein Werk, Brenner-Verlag, Innsbruck, 1912; Sturm, B., Gegen Weininger. Ein Versuch zur Lösung des Moralproblems, Braumüller, Wien, 1912; Klaren, G., Otto Weininger: der Mensch, sein Werk und sein Leben, Vienna, 1924. Из самых, наоборот, последних см.: Kerekes, A., Millner,A., Orosz, M., Teller, K., Mehr oder Weininger. Eine Textoffensive aus Österreich/Ungarn, Braumüller, Wien, 2005.
[6] Jünger, F.G., Otto Weininger. Essay, Frankfurt am Main, 1972.
[7] О проблеме влияния Вайнингера на Виттгенштейна см.: Stern, D.G., Szabados, B., (Hrsg.), Wittgenstein Reads Weininger, Cambridge University Press, New York 2004.
[8] О взаимоотношении Фрейда и Вайнингера: Le Rider, J., Otto Weininger als Anti-Freud / Paul Manker (Hrsg.) Weiningers Nacht, Europa Verlag, Wien, 1988, S. 135–140 (Nachdruck der Ausgabe in Traum und Wirklichkeit. Ausstellungskatalog, Wien, 1985). Суть проблемы заключается в вопросе приоритета, который, скорее всего, остается за Флиссом, неосторожно изложившим свою гипотезу человеческой бисексуальности своему пациенту Герману Свободе, бывшему одновременно другом Вайнингера, который, видимо, от него-то и узнал основные положения этой теории. См.: Фрейд 1999, с. 125–126. Флиссом вся эта история была изложена собственноручно, но несколько поздновато: Fließ, W., In eigener Sache. Gegen Otto Weininger und Hermann Swoboda, Berlin, 1906.
[9] См., например, самое монументальное исследование на эту тему: Lange-Eichbaum, W., Genie, Irrsinn und Ruhm. Genie- Mythus und Pathographie des Genies, Reinhardt Ernst, München, Basel, 1961.
[10] Ср. из «Афоризмов»: «Сон и сновидение, наверное, имеют общее с нашим состоянием до рождения» [Вайнингер 1995, с. 83].
[11] см.: Zittlau, J., Vernunft und Verlockung. Der erotische Nihilismus Otto Weiningers, Zenon Verlag, Düsseldorf, 1990.
[12] см.: Jews and Gender: Responses to Otto Weininger, Harrowitz, N., Hyams, B. (eds), Temple University Press, Philadelphia, 1995, pp. 35–58; Hirsch, W., Eine unbescheidene Charakterologie. Geistige Differenz von Judentum und Christentum. Otto Weiningers Lehre vom bestimmten Charakter, Peter Lang GmbH, Frankfurt a. M., 1997.
[13] Название посмертного сборника Вайнингера: Über die letzten Dinge (mit einem biographischen Vorwort von Dr. Moriz Rappaport), Braumüller, Wien, 1907. Перевод на русск. яз.: [Вайнингер 1995]
[14] Понятие «генида» обозначает «психические явления примитивного детского состояния» [Вайнингер 2012, с. 97].
[15] Ср.: «Каждая генида — это индивидуум, каждая генида отличается от другой» [Вайнингер 2012, с. 98].
[16] Нордау
[17] Название биографии основателя гештальт-терапии: Perls, F., In and Out the Garbage Pail, Gestalt Journal Press, 1969. Перевод на русск. яз.: Перлз, Ф. Внутри и вне помойного ведра. СПб.: Петербург XXI век, 1994.
[18] Полусумасшедший, полуздоровый субъект «на грани», типичный случай или для гения, или для преступника (от итальянского ‟matto”). См.: Ванеян С.С., Чезаре Ломброзо: психиатр-знаток или маттоиды и вырождение // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2016. № 2. С. 34–38.
[19] Стайн
[20] Lakoff, G., Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind, University of Chicago Press, 1987 (Перевод на русск.яз.: М., 2004).
[21] См. об этом уже в некрологе Вайнингера, написанном Стриндбергом: Strindberg, А., ‟Idolatrie, Gynolatrie. Ein Nachruf auf Otto Weininger”, Die Fackel, 1903, Nr. 144, 17. Oktober.
[22] Понятно, однако, что именно эти темы — ведущие в новейших исследованиях о Вайнингере: Le Rider, J., Der Fall Otto Weininger. Wurzeln des Antifeminismus und Antisemitismus, Löcker Verlag, Wien, 1985.
[23] Как откровенный симптом может восприниматься то обстоятельство, что самая полная биография Вайнингера — англоязычная и послевоенная! См.: Abrahamsen, D., The Mind and Death of a Genius, Columbia University Press, New York, 1946.
[24] Понятие, введенное Теодором Лессингом и описывающее феномен еврейского антисемитизма (Lessing, Th., Der jüdische Selbsthass. Teil 2: Otto Weininger, Jüdischer Verlag, Berlin, 1930, pp.80–100).
Авторы статьи
Информация об авторе
Степан С. Ванеян, доктор искусствоведения, профессор, НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, 21; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,119991, Москва, Ленинские горы, 1; vaneyanss@rah.ru
Author Info
Stepan S. Vaneyan, Dr. of Sci. (Art history), professor, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21, Prechistenka St, Moscow, 119034, Moscow, Russia; Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; 1, Leninskie Gory, 119991; vaneyanss@rah.ru