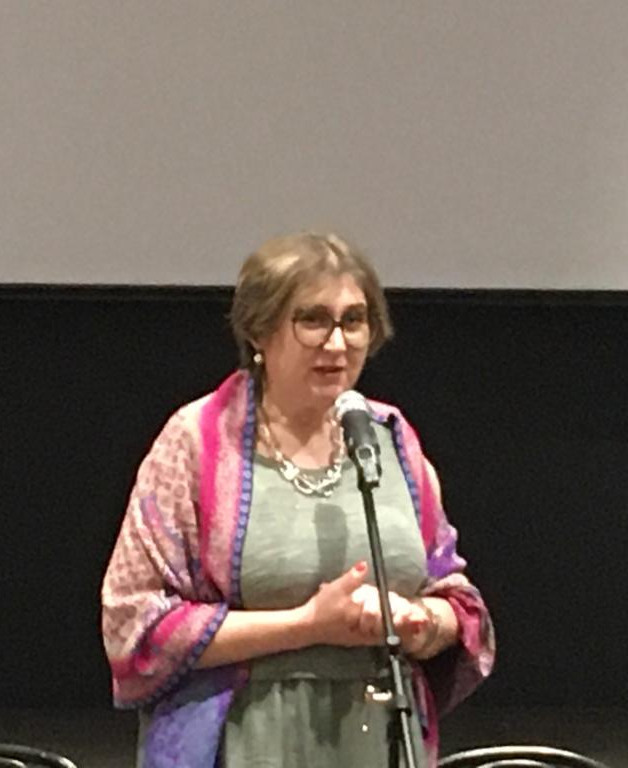Константин Кузнецов: религиозный цикл «Восемь дней творения»
Анна К. Флорковская
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, florkovskaja@yandex.ru
Аннотация
Статья посвящена циклу из восьми картин, написанных в технике темперы, московского художника Константина Николаевича Кузнецова. Цикл был создан в первой половине 1990-х годов на библейскую тему и является живописным размышлением эсхатологического и историософского характера, в котором синтезированы и художественно интерпретированы богословские идеи русского религиозного ренессанса начала ХХ века, актуализированные на рубеже XX‒XXI вв., в тот момент, когда шло активное возвращение досоветского наследия в культуре и христианской мысли. Христианская тематика цикла синтезирована с образами древней восточной мифологии и античной Греции, гармонического союза природы и культуры. Полотна Константина Кузнецова написаны в то время, когда в науке об искусстве заметен интерес к изобразительной иконографии христианских и дохристианских эпох и являются своеобразным творческим проявлением этого интереса.
Ключевые слова:
религиозное искусство, библейская тема, дни творения, античное наследие, русский религиозный ренессанс, историософия, иконография, темпера, искусство рубежа XX‒XXI веков
Для цитирования:
Флорковская А.К. Константин Кузнецов: религиозный цикл «Восемь дней творения» // Academia. 2024. № 4. С. 645−656. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-645-656
Konstantin Kuznetsov: the religious cycle “Eight Days of Creation”
Anna K. Florkovskaya
Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, florkovskaja@yandex.ru
Abstract
The article is devoted to a cycle of eight tempera paintings by the Moscow artist Konstantin Kuznetsov. The cycle was created in the first half of the 1990s on a biblical theme. It is a picturesque reflection of an eschatological and historiosophical nature, in which the theological ideas of the Russian religious renaissance of the early 20th century, actualized at the turn of the 21st century, were synthesized and artistically interpreted, at a time when there was an active return of pre-Soviet heritage in culture and Christian thought. The Christian theme of the cycle is synthesized with images of ancient Oriental mythology and ancient Greece, the harmonious union of nature and culture. Konstantin Kuznetsovʼs canvases were painted at a time when art science was noticeably interested in the iconography of Christian and pre-Christian eras, their significance is a kind of creative manifestation of this interest.
Keywords:
religious art, biblical theme, days of creation, ancient heritage, Russian religious Renaissance, historiosophy, iconography, tempera, art of the turn of the 21st century
For citation:
Florkovskaya, A.K. (2024), “Konstantin Kuznetsov: the religious cycle ʻEight Days of Creationʼ”, Academia, 2024, no 4, рр. 645−656. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-645-656
В 1991‒1994 годах, на излете ХХ века, московский живописец Константин Николаевич Кузнецов (1944‒2022) создает масштабный цикл картин «Восемь дней творения», продолжив тем самым линию религиозного искусства, начатую в самом начале века. Одной из доминант развития религиозного искусства в начале ХХ века в России было возможное воцерковление мировой культуры, особенно острая полемика тогда шла вокруг синтеза христианства и античности как искусства эпохи язычества. Об этом много писали Вячеслав Иванов, Василий Розанов, Дмитрий Мережковский и другие творцы и мыслители рубежа веков. С 1920-х годов это направление ярко представляли художники «Маковца», особенно Василий Чекрыгин, Лев Жегин и Сергей Романович.
Конец ХХ века, 1990-е годы стали особым периодом в истории нашей страны, сегодня все больше привлекающим внимание. Рубежными они являются и в творческой эволюции К.Н. Кузнецова. Местом экспонирования его работ со второй половины 1970-х годов был выставочный зал Горкома графиков, где сложился альтернативный официальному искусству, в то время атеистического государства, круг религиозно-ориентированных художников: Виталий Линицкий, Владислав Провоторов, Сергей Симаков, Эдуард Штейнберг, Александр Харитонов, Сергей Потапов и другие.


В позднесоветское время религиозная тема в творчестве К.Н. Кузнецова не была раскрыта, точнее, она присутствовала лишь косвенно. С конца 1960-х годов в отечественном искусстве устойчивой тенденцией стало возвращение интереса к древнерусской культуре, поиск утраченных в 1930‒1950-е годы национальных корней, подогреваемый общим культуроцентричным настроем эпохи.
Не исключением стало и творчество К.Н. Кузнецова. С середины 1960-х он путешествовал по старым русским городам (с 1967 года многие из них вошли в тогда же осуществленный проект Золотого кольца), запечатлевал в этюдах, подобно множеству своих современников-художников, сохранившиеся древнерусские храмы. Во второй половине 1980-х он совершает скачок от пейзажей с храмами к картинам на религиозные темы философски-историософского характера: «Голгофа» (1985), «Гора Сион» (1987), «Новый Иерусалим» (1987).
Этому способствовало несколько факторов. В конце 1980‒1990-х годов начался динамичный процесс возвращения веры, религии, церкви, что отразилось в жизни всех конфессий, в том числе и православия. Активно возвращалась в публичное поле русская религиозная философия Серебряного века: книги Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Василия Розанова, Сергия Булгакова, Павла Флоренского, Льва Шестова, Семена Франка. Они выходили большими тиражами для широкого читателя, в «Библиотеке журнала «Огонек»» и в других издательствах. Возникают христианские радиостанции, для К.Н. Кузнецова одним из любимых стало радио «София»[1], имевшее не только религиозную, но и культурную направленность.


Художник слушал и читал русскую религиозную философию Серебряного века. Параллельно шло и его воцерковление, в 1980 году художник крестился. В известной степени к этому привело его знакомство с Алексеем Семеновичем Россалем-Вороновым [Александрова 2006], который сперва учился в студии Элия Белютина, а начиная с 1960-х годов начал писать иконы и расписывать храмы. Он был учеником иконописца Иулиании (Соколовой) и работал в Троице-Сергиевой Лавре, а затем в Донском монастыре [Росcаль-Воронов].
Россаль-Воронов привлек Кузнецова к поновлению и реставрации церковных росписей и ввел в мир христианской культуры и искусства.
В 1989 году в Академии художеств в Москве состоялась выставка, посвященная 1000-летию крещения Руси. Ее сопровождал объемный каталог [1000-летие 1988], где были собраны образцы христианского искусства от первых веков Руси и до начала ХХ века, в том числе и светская живопись на христианские темы. Чуть раньше, в 1983 году церкви был возвращен московский Данилов монастырь, в конце 1980-х К.Н. Кузнецов становится его постоянным прихожанином. Одним из любимых мест его этюдной работы был Донской монастырь, где в советские года находился филиал Музея архитектуры имени А.В. Щусева, среди экспонатов которого ‒ свезенные из разрушенных московских церквей иконостасы, которые художник изучал с карандашом в руках. Эти рисунки демонстрируют его внимание к барочным композициям иконостасов и икон, которые легли в основу многих картин К.Н. Кузнецова, оставили отпечаток на его композиционном и пластическом мышлении.
Важной составляющей творческого универсума художника стали античность и русский классицизм XVIII ‒ начала XIX века. Если классицизм он постигал через архитектуру Москвы и Петербурга, то античность входила в его творчество природно-музейными путями, это были Пушкинский музей и Крым. «Античное наследие образует устойчивое слагаемое русской культуры на протяжении большей части ее истории, ‒ пишет филолог и культуролог Г.С. Кнабе, ‒ Наследие это входило в духовную жизнь Руси, а потом и России не в виде простых «влияний» или «заимствований», а в результате «перекликов в самых сокровенных недрах культуры», по выражению П.А. Флоренского» [Кнабе 1996, с. 7]. Кнабе же вводит понятие «русская античность» [Кнабе 1999], исследуя данное понятие и его реализацию в русской культуре вплоть до рубежа XIX‒XX веков.


В живописи Константина Кузнецова античность играет роль структурно-образного и смыслопорождающего начала. Он последовательно воплощает собственный «античный миф», сопряженный с русской и европейской традицициями нескольких столетий: греческая скульптура, римский портрет, русская икона, ренессансная скульптура, русская архитектура барокко и классицизма, Александр Иванов и Павел Корин. Все они видятся художнику звеньями непрерывного процесса, причастным к которой он ощущает себя и свое творчество. «Текст» европейской и русской античности для Кузнецова – живая и подвижная реальность, ее слои и пласты просвечивают друг через друга, дают взаимные пластические и смысловые рефлексы. Квинтэссенцией античности для него в это время становится Крым, его архитектурный и природный ландшафт, пропитанный памятью о греческой древности, легким послевкусием классицизма екатерининского времени, модерном и сталинским санаторным ампиром. Сама природа Крымского полуострова помогала представить себе Грецию: море, скалы, сухая земля с колючими растениями, звенящий зной [Флорковская 2015].
На рубеже 1980‒1990-х годов художник много работает в ГМИИ имени А.С. Пушкина – рисует гипсы античных скульптур. Эти рисунки, эскизы входят в его картины, где все громче звучат христианские темы. Кузнецов участвует в те годы в ряде выставок на религиозную тему: «1000 лет христианской культуры» (1988, Московский объединенный комитет художников-графиков), «Рай земной и небесный» (1990, Выставочный зал на Солянке), «Христианская культура. Традиции и современность» (1991, Выставочный зал на Солянке), «Крест животворящий» (1994, Московский объединенный комитет художников-графиков).
Под влиянием личностной и творческой эволюции, тех перемен, которые совершались в стране, в 1991‒1994 годах К.Н. Кузнецов создает цикл «Восемь дней творения», ставший итогом предшествующих десятилетий и попыткой прорыва в будущее, как в художественном, так и в мировоззренческом плане. Одновременно цикл стал документом своего времени, передававшим его наполненную надеждами и перспективами атмосферу, важной составляющей которой стало новое место христианства в России.


Художник с середины 1970-х годов работал в технике темперы. Иконная живописная техника вернулась в отечественную живопись в эпоху Серебряного века, и в творчестве Кузнецова выполняла все ту же роль: выявляла онтологичность искусства, художественное преодоление материальной вещности мира. Художник практически не использовал грунт, проклеивая холст желатином, и кое-где оставляя тканевую основу непрокрашенной, визуально подчеркивая тему «основания». Живописная техника – не пятно, а линия и точка; штриховка и пуантель.
Иконография сотворения мира в мировом искусстве грандиозна, она воплотилась в живописи и гравюре, в мозаике и фреске, в церковной росписи, в светском искусстве Ренессанса, Нового и Новейшего времени, ХХ века [Пожидаева]. Величественная панорама творения, описанная в Ветхом Завете, в книге Бытия (1:1‒2:3 и 2:4‒2:5), соседствует с иконографией творения в его новой Евангельской трактовке, где появляется еще один – восьмой – день творения. К восьмому дню была обращена мысль христианских богословов с первых веков христианства. Исторический обзор их суждения о восьмом дне был дан в наше время о. Дионисием (Шленовым).
«Восьмой день в греческой христианской литературе – многозначное, глубокое эсхатологическое понятие», ‒ отмечает Шленов. Восьмой день упоминается в Ветхом завете и у античных авторов: в «Государстве» Платона. «У Филона Александрийского встречается глубокое богословское истолкование восьмого дня». У св. Григория Нисского «Восьмой день оказывается символом предельного блаженства после духовного восхождения». Обзор понятия «восьмой день» у основных авторов золотого века патристики приводит автора к следующим выводам: восьмой день так или иначе выходит за пределы ветхозаветной субботы, он выходит за пределы обычного седмеричного (по числу дней недели) времени; является восполнением или, лучше сказать, исполнением времен; относится к будущему суду и воздаянию; имеет вневременный характер как другая система координат. «Этот инородный характер восьмого дня соответствует инородному характеру Нового Завета и Боговоплощению не ради увековечения греховного мира, а ради спасения и приведения всех достойных к жизни вечной», ‒ пишет о. Дионисий. В поздневизантийской традиции восьмой день в основном описывался как будущий век.
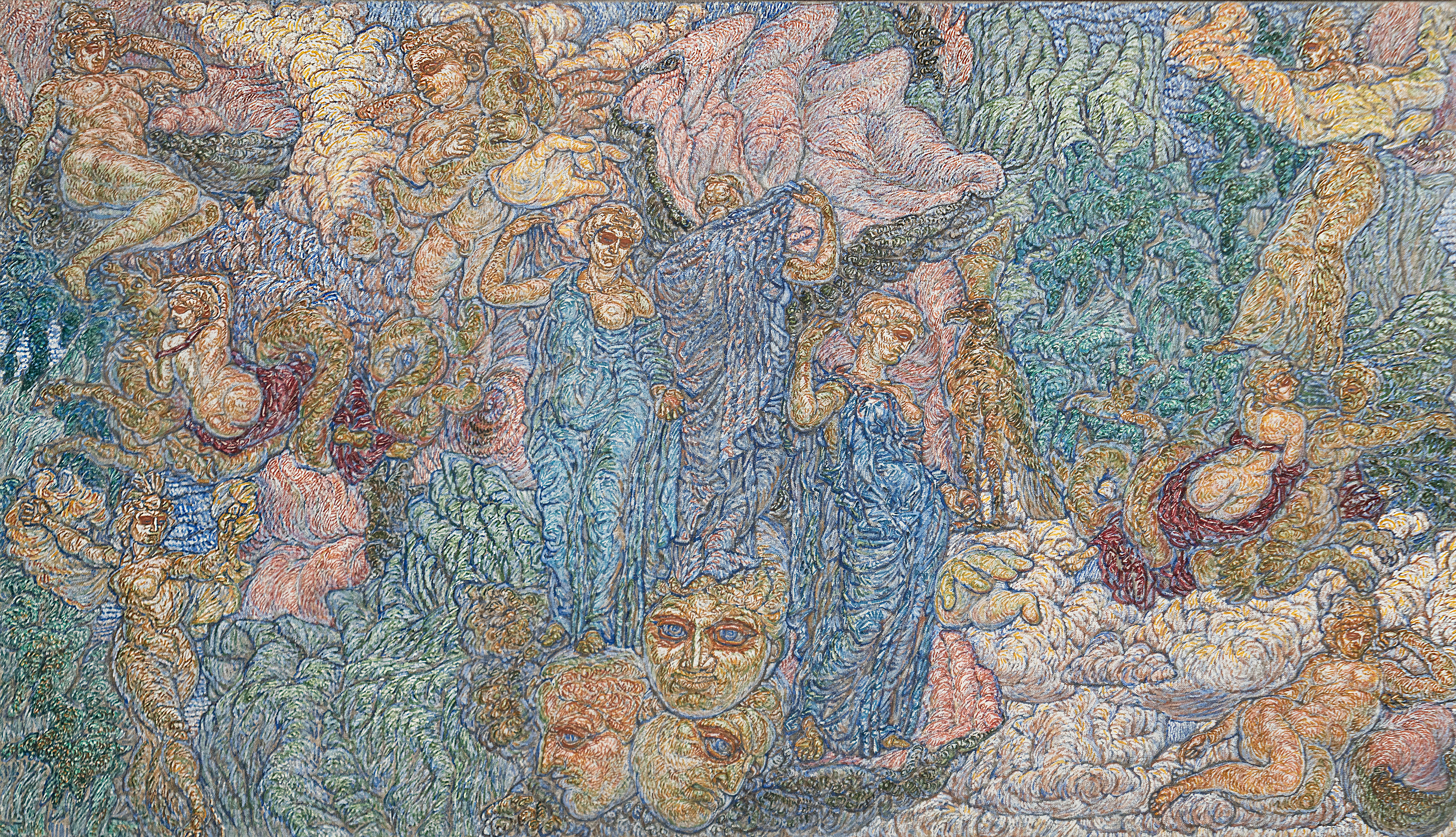

«Если подвести итоги, ‒ пишет автор, ‒ то после рассмотрения разрозненных свидетельств получится следующая картина. Шесть дней творения и седьмой день упокоения соотносились с мировой историей…восьмой день, как день Господень, обозначает…бесконечное царство будущего века, проникнутое навеки радостью Воскресения…Восьмой день ‒ это новое Пасхальное время, которое и на земле и, тем более, за пределами земного бытия оказывается подлинным измерением вечности» [Шленов]. В начале ХХ века о восьмом дне творения писали также Николай Бердяев и Василий Розанов, именно под их влиянием К.Н. Кузнецов увлекается мыслью о восьмом дне творения. Его целью становится изобразить мистерию мира, мировой истории, космоса и человека. Однако художник не точно следует богословским истолкованиям и тексту Ветхого Завета о сотворении мира [Сотворение мира], а дает свою интерпретацию космогонии.
В «Дне первом» (1991) показан изначальный раскол сотворяемого мира на две части, на мужчину и женщину. Эта тема – тема двух начал – проходит через весь цикл. По мысли художника, эта глубинная «трещина» мироздания возникла еще до создания Адама и Евы. Начала маркированы цветом: коричневым мужское, зеленоватым – женское. Известно, что зеленый цвет в культуре амбивалентен – он символизирует и жизнь, и смерть. Столь же амбивалентна и женщина. Раскол проходит по диагонали композиции, центр занимают руки Творца. В последующих картинах цикла эти человеческие начала перемешаны, переплетены и воплощены через античные образы, по мысли художника – изначальные.
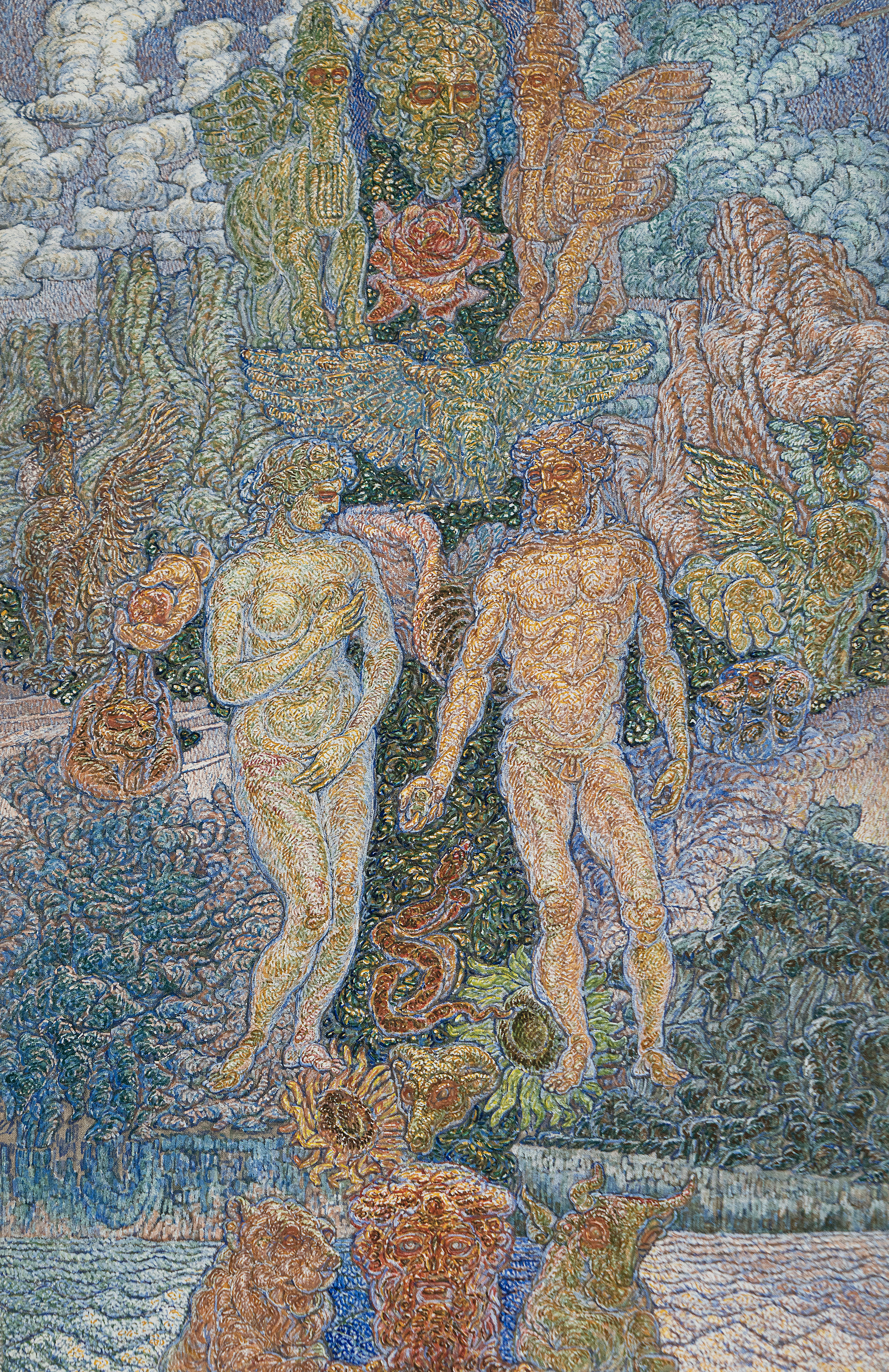

День второй «Небо и земля» (1992) – вновь создание и новое разделение. В дне третьем, «Среда» (1991) появляется насыщенность, пульсация форм – сотворяются суша и море, растения. Возникает столпотворение образов, их теснота. Колорит ‒ яркий, сочный – приходит на смену более сдержанной гамме первых двух полотен цикла. Усиливается и объемность фигур – мир как бы раскрывается. И здесь – рука Творца в нижнем крае картины.
В «День четвертый» (1993) созидаются небесные светила: солнце, луна, звезды. Их создание определяет меру времени: ночь и день, светлое и темное. Акцент сделан на последствиях рождения света – зрении, глазах, они акцентированы.
В «День пятый» (1993) появляются рыбы и птицы. Доминируют женские образы и пейзажи (это крымские прибрежные скалы). Масштабы смешаны, фигуры наплывают друг на друга, оппозиция фигура-фон отсутствует. Рука Творца уже с трудом различима среди изобилия форм жизни. Преобладающим становится синий и голубой цвета, пришедшие на смену коричневому и зеленому. Глаза, еще недавно темные, пустые, наполняются голубым цветом.
В «День шестой» (1993) наступает время животных и человека. Композиция вновь возвращается к вертикали, как в двух первых работах цикла. Перед нами весь мир в его полноте: в центре Адам и Ева. Именно они, по мысли художника, являются причиной его творения, над ними небеса с облаками, их окружают леса, животные в мифологических образах разных культур, обожествлявших животных, среди которых доминируют древнеассирийские шеду. Шеду помогал людям бороться со злом и хаосом, а также держал ворота зари открытыми для бога солнца Шамаша, помогал поддерживать солнечный диск. Шеду ‒ дух-хранитель человека, выражающий его индивидуальность. Возникает вопрос: как в искусство христианской тематики проникают языческие символы? Художник отчетливо видел связи разных эпох и считал древние религии предвосхищением христианства, первой ступенью духовного развития человечества. Объемлют этот прекрасный мир две руки Творца, держащие яблоки – символы Райского сада. Колорит многоцветный, его объединяет теплый яркий свет.

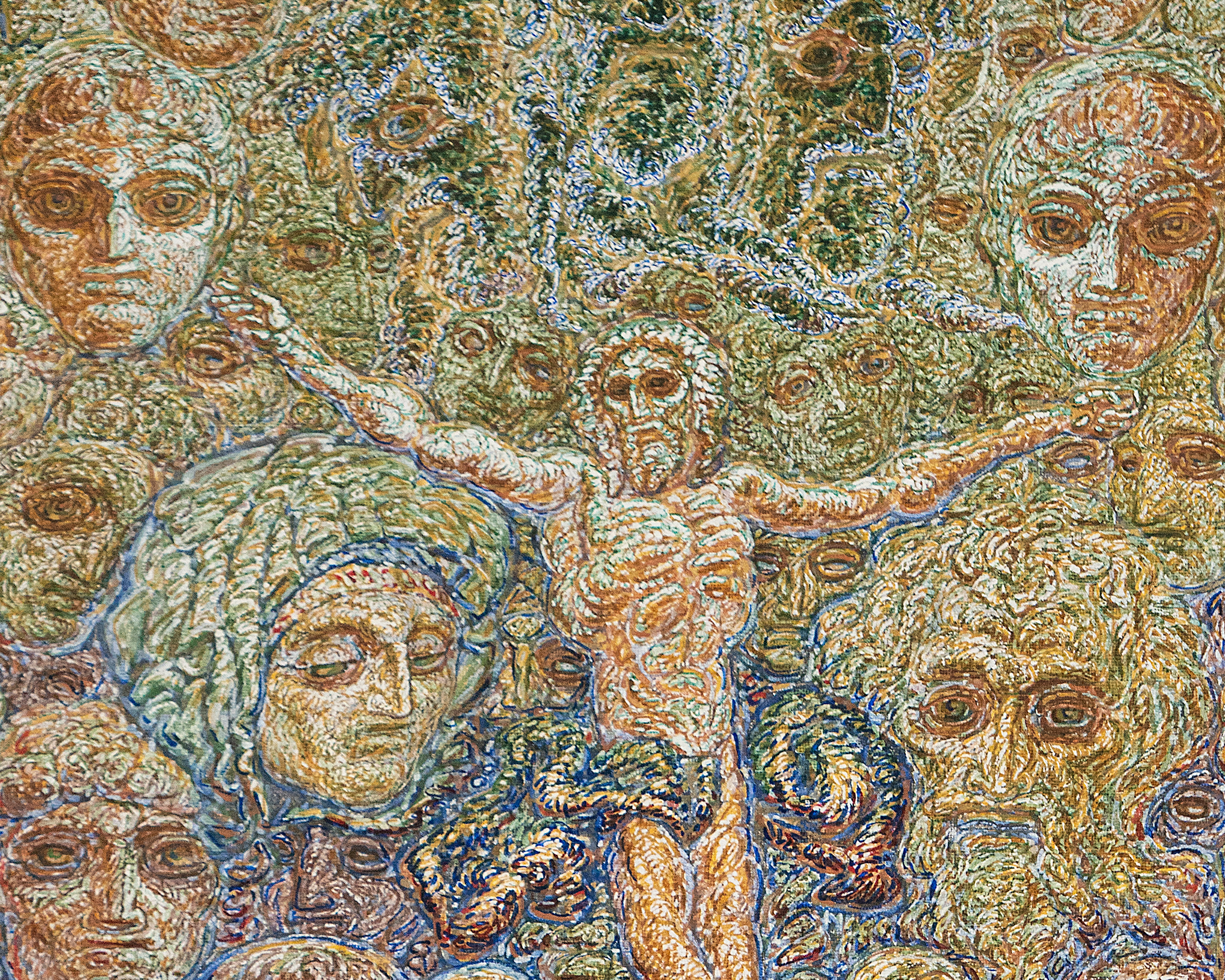
В Ветхом Завете день седьмой – день покоя, отдохновения от трудов и наслаждения прекрасным миром. Напротив, новозаветная Евангельская история предлагает нам другое продолжение мировой драмы: жертву Христа за человека и мир. И художник изображает эту мистерию в седьмой картине цикла – «Воскресении» (1993). В центре композиции Христос, его окружают изможденные, постаревшие Адам и Ева. Вновь происходит раскол, деление, но на этот раз по горизонтали, на верх и низ. И именно страждущее человечество, а не природа становится действующей силой этой мистерии.


Наконец, «День восьмой» (1994) ‒ День Господень, начало новой вехи космического дня, начало эры творчества человека, «Царство будущего века». Перед нами преображенные Адам и Ева, их тела светятся, они иной, уже не земной, не плотяной природы, и вместе с ними преображен весь мир. У художника в этом цикле формируется резкий, напряженный разрывистый штрих, который приходит на смену нежной пуантели более ранних его работ. Еще одни устойчивый для всего цикла мотив – это глаза, очи, зрение, видение, познание.
Последнее десятилетия XX века и первые годы XXI века – время новой «смены вех» в культуре и общественно-политической жизни России. Культуроцентричное искусство 1970‒1980-х годов, подвижнически растившее авторский миф беспощадно развеивают ветры истории. Появляются новые масштабы осмысления настоящего и глубокого прошлого, культура стремительно расширяет свои границы, вновь обращаясь к самым фундаментальным основам человечества. Религиозная тема, освободившись из плена государственного атеизма, привлекает внимание художников и зрителей своей насущностью для времени и места – России 1990-х.
Это время и для К.Н. Кузнецова становится новым этапом в творчестве. Он начинает работать над крупными циклами, пронизанными сложными историософскими идеями. «Восемь дней творения» являются значимым рубежом в его искусстве и в содержательном, и в пластически-композиционном отношении, открывающим период зрелого творчества, в котором религиозная тематика занимает не единственное, но важное место.
Литература
- 1000-летие 1988 – 1000-летие русской художественной культуры / научн. ред. А.В. Рындина. М., 1988. 448 с.
- Александрова 2009 ‒ Александрова К. Искусство как «часть нас самих»: А. Россаль-Воронов // Художественный совет. 2009. № 5. С. 42‒45.
- Кнабе 1996 – Кнабе Г.С. Гротескный эпилог классической драмы. Античность в Ленинграде 20-х годов. М., 1996. С. 7.
- Кнабе 1999 – Кнабе Г.С. Русская античность. М.: РГГУ, 1999. 238 с.
- Пожидаева – Пожидаева А.В. Иконография сотворения мира в западной и византийской традиции от античных образов до эпохи Возрождения. Шестоднев. URL: https://magisteria.ru/old-testament-iconography/creation (дата обращения: 09.11.2024)
- Россаль-Воронов – Россаль-Воронов Алексей Семенович. Биография. URL: https://tramvaiiskusstv.ru/plakat/spisok-khudozhnikov/item/832-rossal-voronov-aleksej-semjonovich-1921-2008.html (дата обращения: 09.11.2024)
- Сотворение мира – Сотворение мира. URL: https://pravoslavie.ru/103568.html (дата обращения: 09.11.2024)
- Флорковская 2015 – Флорковская А.К. Образы античности в московской неофициальной живописи второй полвины 1970‒1980-х годов / Актуальные проблемы теории и истории искусства. V: Сб. научн. ст. Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный Эрмитаж. СПб., 2015. С. 810‒814.
- Шленов – Шленов, Дионисий, игумен. От времени к вечности: о восьмом дне Воскресения и встрече с Воскресшим. Московская духовная академия. URL: https://mpda.ru/publications/ot-vremeni-k-vechnosti-o-vosmom-dne-voskresenija-i-vstreche-s-voskresshim/ (дата обращения: 09.11.2024)
References
- 1000-letie russkoi khudozhestvennoi kultury (1988), [1000th anniversary of Russian artistic culture], Ed. by A.V. Ryndina, Moscow, Russia.
- Aleksandrova, K. (2009), “Iskusstvo kak chast nas samikh: A. Rossal-Voronov” [Art as part of ourselves: A. Rossal-Voronov], Khudozhestvenny Sovet, No 5, pp. 42‒45.
- Knabe, G.S. (1996), Groteskny epilog klassicheskoi dramy. Antichnost v Leningrade 20-kh godov [A grotesque epilogue of a classic drama. Antiquity in Leningrad in the 20s], Moscow, Russia.
- Knabe, G.S. (1999), Russkaya antichnost [Russian Antiquity], RGGU, Moscow, Russia.
- Pozhidaeva, A.V., Ikonografiya sotvoreniya mira v zapadnoi i vizantiiskoi traditsii ot antichnykh obrazov do epokhi Vozrozhdeniya. Shestodnev [The iconography of the creation of the world in the Western and Byzantine traditions from ancient images to the Renaissance. Hexameron], URL: https://magisteria.ru/old-testament-iconography/creation (reference date: 09/11/2024)
- Rossal-Voronov Aleksei Semenovich: Biografiya [Rossal-Voronov Alexey Semyonovich. Biography], URL: https://tramvaiiskusstv.ru/plakat/spisok-khudozhnikov/item/832-rossal-voronov-aleksej-semjonovich-1921-2008.html (reference date: 09/11/2024)
- Sotvorenie mira [Creation of the world], URL: https://pravoslavie.ru/103568.html (reference date: 09/11/2024)
- Florkovskaya, A.K. (2015), “Obrazy antichnosti v moskovskoi neofitsialnoi zhivopisi vtoroi poloviny 1970‒1980-kh godov” [Images of Antiquity in Moscow unofficial painting of the second half of the 1970s–1980s], Aktualnye problemy teorii i istorii iskusstva, V: Collection of scientific articles, St Peterburgsky gosudarstvenny universitet, Moskovsky gosudarstvenny universitet im. M.V. Lomonosova, Gosudarstvenny Ermitazh, St Petersburg, Russia, pp. 810‒814.
- Shlyonov, Dionisy, igumen, Ot vremeni k vechnosti: O vosmom dne Voskreseniya i vstreche s Voskresshim [From Time to Eternity: About the eighth Day of Resurrection and meeting with the Risen One], Moskovskaya dukhovnaya akademiya. URL: https://mpda.ru/publications/ot-vremeni-k-vechnosti-o-vosmom-dne-voskresenija-i-vstreche-s-voskresshim/ (reference date: 09/11/2024)
[1] Радиостанция работала с 1995 по 2009 годы, темами передач были богословие, пастырские беседы, современная литература, музыка, политика и др.
Авторы статьи
Информация об авторах
Анна К. Флорковская, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, florkovskaja@yandex.ru
Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, 109004, Россия, Москва, Товарищеский пер., д. 30,
Author Info
Anna K. Florkovskaya, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, florkovskaja@yandex.ru
Moscow State Academic Art Institute named after Vasil Surikov, 30 Tovarischesky lane, 109004, Moscow, Russia, florkovskaja@yandex.ru